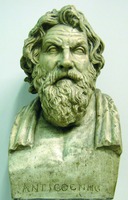Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Как приобрести тома "Православной энциклопедии"
- Источники
- Наименование «киники» и вопрос о философском характере кинизма
- Ранний кинизм
- К. в IV-I вв. до Р. Х.
- Кинизм в Римской империи (I-V вв.)
- Учение К.
- Киническое мышление: отказ от ненужного знания
- Киническая жизнь: практика и аскетика
- К. и общество
- Религиозные взгляды К.
- Влияние К. на философию и культуру
- Кинизм и христианство
КИНИКИ
[греч. οἱ Κυνικοί; лат. Cynici], представители кинизма, одной из сократических школ (см. в ст. Сократ) античной и эллинистической философии. Кинизм возник в IV в. до Р. Х. и просуществовал до кон. V в. по Р. Х.; в нек-рые периоды он пользовался значительной популярностью, особенно в низших слоях об-ва. Из различных источников известно ок. 80 имен кинических философов, о большинстве из к-рых имеются лишь скудные и отрывочные сведения (список с комментариями см.: Goulet-Cazé. A Comprehensive Catalogue of Known Cynic Philosophers. 1996).
Источники
Ни одно из сочинений К. полностью не сохранилось. Число приводимых античными авторами отрывков из произведений К., способных служить источниками для установления особенностей их философского учения, крайне невелико. Наиболее подробным источником сведений о раннем кинизме является сочинение Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», где кинизму посвящена целиком 6-я кн. (Diog. Laert. VI; см. также: Ibid. IV 46-58). Вместе с тем отдельные сообщения Диогена Лаэртского о К. совр. исследователи подвергают сомнению ввиду их расхождения с иными, более достоверными источниками (подробный анализ содержания 6-й кн. см.: Goulet-Cazé. 1992; Gugliermina. 2006). Отдельные повествования о К. и их изречения приводили мн. греч. и лат. философы и писатели, в т. ч. Ксенофонт (V-IV вв. до Р. Х.), Аристотель (IV в. до Р. Х.), Страбон (кон. I в. до Р. Х.- нач. I в. по Р. Х.), Филон Александрийский (I в.), Луций Анней Сенека (I в.), Плутарх (I-II вв.), Секст Эмпирик (кон. II - нач. III в.), Гален Пергамский (II-III вв.), Иоанн Стобей (V в.) и др. Кроме того, важность ввиду их древности (III-I вв. до Р. Х.) представляют краткие сведения о К., содержащиеся в античных папирусах, исследованных в XIX-XX вв. (см.: Gallo. 1980; Giannattasio Andria. 1980; Dorandi. 1982; Bastianini. 1992; Brancacci. 1996). Во II-IV вв. учение К. подробно обсуждали некоторые греч. авторы, не принадлежавшие по своему образу жизни и убеждениям к кинической школе, однако с симпатией относившиеся к идеям кинизма: стоик Эпиктет (I-II вв.), философствующий оратор Дион Хризостом (I-II вв.), философ и сатирик Лукиан Самосатский (II в.), платоник Максим Тирский (II в.), неоплатоник рим. имп. Юлиан Отступник (361-363). В отечественной науке они получили условное наименование «кинизирующие писатели» (Нахов. 1982. С. 26-30). Из ранних христианских авторов различные сведения о К. приводят Климент Александрийский (II-III вв.), Тертуллиан (II-III вв.), Лактанций (III-IV вв.), Евсевий, еп. Кесарии Палестинской (III-IV вв.), Феодорит, еп. Кирский (IV-V вв.), свт. Иоанн Златоуст, архиеп. К-польский (сер. IV - нач. V в); блж. Августин, еп. Гиппонский (IV-V вв.), блж. Иероним Стридонский (IV-V вв.) и др. (см. указатель: SSReliq. Vol. 3. P. 93-238). Популярность кинизма в эллинистическую эпоху привела к появлению ряда псевдоэпиграфических сочинений, в которых идеи позднего кинизма приписываются ранним представителям кинической философии. Наиболее крупным памятником такого рода являются «Письма» сократиков и К.- сборники подложных писем Антисфена, Диогена, Кратета, Мениппа и др. философов.
С кон. XIX в. наиболее часто используемым историками философии источником фрагментов К. была подборка, подготовленная немецким филологом Ф. В. А. Муллахом (Mullach. 1881); фрагменты приводятся здесь с лат. переводом. В XX в. были изданы собрания фрагментов отдельных К.: Антисфена (Decleva Caizzi. 1966), Телета (Hense. 1909; Fuentes González. 1998), Биона Борисфенита (Kindstrand. 1976), Деметрия (Billerbeck. 1979). В 1990 г. итал. филолог Г. Джаннантони (1932-1998) представил полное собрание фрагментов ранних К. в составе труда «Фрагменты Сократа и сократиков» (Socratis et socraticorum reliquiae); в 1-м и 2-м томах издания приводятся систематизированные по сократическим школам и их представителям фрагменты (фрагменты К. см.: SSReliq. Vol. 2. P. 135-590 = SSReliq. V A-N), 3-й т. содержит указатели источников, исследовательской лит-ры и имен, в 4-м т. предлагаются авторские комментарии в виде экскурсов по отдельным проблемам. Хотя рецензенты отмечали ряд недостатков текстовой части этого собрания, присущая ему продуманная логичная структура сделала его удобной отправной точкой для исследователей истории сократической философии, среди которых оно к наст. времени стало стандартным цитируемым источником (см.: Döring. 1994; Slings. 1996). Изданный в 1984 г. рус. перевод фрагментов из сочинений К. и кинизирующих писателей «Антология кинизма» (= АнтКин.) был подготовлен ведущим отечественным исследователем кинической философии И. М. Наховым (1920-2006). Большая часть фрагментов ранних К. переведена по корпусу Муллаха, однако учтены и нек-рые более поздние издания; нумерация фрагментов Антисфена и Диогена соответствует нумерации в издании Муллаха.
Наименование «киники» и вопрос о философском характере кинизма
Известны 2 гипотезы происхождения названия «киники»; обе засвидетельствованы уже у Диогена Лаэртского. Предпочтение совр. историками философии той или иной из них напрямую зависит от избираемого ими решения дискуссионного вопроса о том, следует ли считать Антисфена основоположником кинизма (Döring. 1998. S. 267). Исторически первое известное в наст. время употребление наименования «киники» встречается в приводимом Диогеном Лаэртским отрывке из комедии Менандра (IV-III вв. до Р. Х.), где «киником» назван Кратет (Diog. Laert. VI 93).
Согласно 1-й, более популярной, гипотезе, не требующей соотнесения кинизма с Антисфеном, К. получили свое наименование от присущего им образа жизни (ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς ζωῆς - Simplic. In Categ. P. 4; SSReliq. I H 9): поскольку К. вели жизнь, похожую на жизнь собак, они были насмешливо прозваны «собачьими» (κυνικός) философами. Одновременно это указывало на их преемственную связь с Диогеном, который сам называл себя «собакой» (κύων - Diog. Laert. VI 60; ср.: Ibid. 33). Наиболее подробное объяснение различных смыслов, к-рыми со временем обросла связь наименования «киники» с «собачьим» образом жизни, встречается в «Комментарии к Категориям Аристотеля», авторство к-рого приписывается александрийскому неоплатонику Элию (2-я пол. VI в.). Автор «Комментария...» выделяет 4 причины, по к-рым за К. закрепилось имя «собачьих философов». Во-первых, К. были названы так «из-за безразличия (ἀδιάφορον), свойственного этому животному, поскольку они, руководствуясь таким же безразличием, имели обыкновение, словно собаки, публично есть и предаваться любовным утехам, ходить босыми, спать в бочках и на перекрестках». Во-вторых, К. были похожи на собак тем, что «собака является бесстыдным животным, и они также хотели приобрести бесстыдство (ἀναίδεια), но не такое, которое хуже стыдливости, а такое, которое лучше ее». В-третьих, «собака является сторожевым животным, и они также охраняли основоположения своей философии с помощью различных рассуждений, и сильно гордились этим». В-четвертых, «собака - различающее животное, которое отличает дружественное и враждебное себе в зависимости от того, знакомо ему это или незнакомо... и они также признавали дружественными себе тех, кто были пригодны к философии, и принимали их благосклонно, а непригодных прогоняли лаем, словно собаки» (Elias. In Categ. P. 111; SSReliq. I H 9; ср.: Dudley. 1937. P. 5).
Согласно 2-й гипотезе, киническая школа получила название от афинского гимнасия Киносарг (Κυνόσαργες; о нем см.: Pauly, Wissowa. 1924. Bd. 12. Hbd. 23. Sp. 33; Billot. 1994), в к-ром проводил философские беседы с учениками Антисфен; эта гипотеза представлена, напр., в визант. словаре Суда (Suda. Α 2723). Приводя это объяснение, Диоген Лаэртский предполагал, что оно согласуется с 1-й гипотезой, т. к. Антисфен будто бы именовал себя «подлинный пес» (῾Απλοκύων). Совр. исследователи отмечают, что в данном случае вероятнее всего произошло намеренное перенесение на Антисфена сведений, относящихся к Диогену Синопскому (Döring. 1998. S. 267). Косвенное подтверждение того, что первоначально ученики Антисфена не назывались К. и не соотносились с «собакой» Диогеном, обнаруживается у Аристотеля: в «Риторике» он приводит высказывание «пса», намекая, по-видимому, на Диогена (Arist. Rhet. III 10. 1411a), но при этом в «Метафизике» называет последователей Антисфена «антисфениками» (᾿Αντισθένειοι), а не «киниками» (Idem. Met. VIII 3. 1043b). Т. о., предположение о связи наименования «киники» с Антисфеном и Киносаргом, вероятнее всего, является позднейшим вымыслом (однако есть аргументы и в пользу противоположной т. зр.; см.: Нахов. 1982. С. 40-43; Goulet-Cazé. Who Was the First Dog. 1996); вместе с тем это не решает окончательно вопроса о роли Антисфена в возникновении кинизма.
По свидетельству Диогена Лаэртского, уже в его время среди историков философии существовало 2 противоположных мнения по вопросу о природе кинической философии (Döring. 1998. S. 267). Мн. авторы, настроенные по отношению к кинизму критически, считали, что кинизм вообще неправильно называть философской «школой» (αἵρεσις) в том смысле, в каком говорилось о философских школах платоников, эпикурейцев, стоиков, поскольку кинизм требует лишь определенного образа жизни (ἔνστασις βίου) и не имеет целью теоретическое исследование философской истины (Diog. Laert. VI 103, ср.: Ibid. I 19). Так, по свидетельству блж. Августина, еп. Гиппонского, рим. писатель Марк Теренций Варрон (I в. до Р. Х.) полагал, что у киников отсутствует теоретическое учение о «цели блага» (finis boni); различные киники «принимали за конечные блага (bona finalia) различные предметы: одни добродетель, другие похоть,- однако держались одного и того же образа жизни и обычаев» (Aug. De civ. Dei. XIX 1). Иное мнение, особенно распространенное среди сторонников и защитников кинизма, исходит из того, что, несмотря на всецело практический характер кинической философии, в ней представлено закономерное развитие ряда этических идей Сократа и реализован восходящий к его учению идеал познания теоретической истины через обращение к анализу практического блага. Для представителей 2-й позиции важное значение имело возведение кинизма через Антисфена к Сократу, поскольку оно позволяло уравнять кинизм в правах с др. сократическими школами и увеличивало его философский авторитет. Убежденными сторонниками происхождения кинизма от Сократа через Антисфена были представители стоицизма: т. к. основатель стоицизма, Зенон Китийский, учился у киника Кратета, обосновывая сократическое происхождение кинизма, стоики тем самым подчеркивали преемственную связь с Сократом Зенона и его школы. Одно из наиболее ранних свидетельств, подтверждающих такое преемство, содержится в трактате эпикурейца Филодема из Гадары (I в. до Р. Х.) «О стоиках», к-рый фрагментарно сохранился в составе геркуланских папирусов (P. Herc. 339; см.: SSReliq. V B 126; подробнее см.: Giannattasio Andria. 1980).
Ранний кинизм
Антисфен: жизнь и учение
О жизни предполагаемого основоположника кинизма Антисфена сохранились весьма скудные сведения. Согласно источникам, он был современником и старшим ровесником др. известных учеников Сократа: Платона, Ксенофонта, Аристиппа и Эсхина Сократика. Исследователи предполагают, что Антисфен род. ок. 445 г. и скончался ок. 360 г. до Р. Х. Антисфен являлся уроженцем Афин, однако не был полноправным афинским гражданином, поскольку его мать была фракиянкой (Döring. 1998. S. 269; Navia. 2001. P. 20-22). Первоначально он обучался у ритора-софиста Горгия и достиг серьезных успехов в риторике; возможно, именно в этот период жизни им были созданы мн. несохранившиеся риторические и логические сочинения. В 20-х гг. V в. до Р. Х. Антисфен начал учиться у Сократа; по свидетельству Диогена Лаэртского, его привязанность к Сократу была столь велика, что он каждый день проходил ок. 8 км от Пирейского порта, где жил, до Афин, чтобы послушать Сократа (Diog. Laert. VI 2). Антисфен входил в ближайший круг учеников Сократа: он является одним из собеседников Сократа в диалоге Ксенофонта «Пир»; в «Федоне» Платон сообщает, что Антисфен присутствовал при последней беседе с учениками и смерти Сократа (Plat. Phaed. 59b; SSReliq. V A 20). На основании данных, содержащихся в речах Исократа и др. источниках, исследователи делают вывод, что в 1-е десятилетие после смерти Сократа Антисфен был наиболее известным сократиком в Афинах, однако впосл. уступал в популярности Платону, с к-рым вел постоянную философскую полемику. Во мн. диалогах Платона исследователи находят скрытую критику взглядов Антисфена, хотя Платон в них не называет Антисфена по имени (см.: SSReliq. Vol. 1. P. 358-373). Из ряда источников следует, что Антисфен преподавал в гимнасии Киносарг; вероятность этого подтверждается свидетельством Демосфена о том, что в этом гимнасии обучались юноши, к-рые, как и Антисфен, имели отца-афинянина и мать-чужестранку (Demospth. Or. 23. 213; см.: Döring. 1998. S. 270). Во мн. свидетельствах подчеркивается личный аскетизм Антисфена: по утверждению Ксенофонта, от Сократа он научился равнодушному отношению к богатству, внешним удовольствиям и неблагоприятным жизненным обстоятельствам (Xen. Symp. 4. 34-44; SSReliq. V A 82); он призывал относиться к страданию как к благу, поскольку оно придает твердость духу; Диоген Лаэртский называет его образцом «бесстрастия» (ἀπάθεια), «самообладания» (ἐγκράτεια) и «непоколебимости» (καρτερία), замечая вслед за Ксенофонтом, что он был «очарователен в беседе и сдержан во всем остальном» (Diog. Laert. VI 1. 15). Антисфен скончался в преклонном возрасте от «слабости» (ἀρρωστία); хотя он испытывал тяжелые страдания, он отказался от самоубийства, т. к., по словам Диогена Лаэртского, ему была свойственна чрезмерная «любовь к жизни» (φιλοζωία; см.: Ibid. 18-19).
Приводимый Диогеном Лаэртским список сочинений Антисфена содержит более 60 заглавий, распределенных по 10 «томам» (см.: Ibid. 15-18; SSReliq. V A 41); из них сохранились лишь 2 небольшие речи (декламации) на мифологические темы (SSReliq. V A 53-54; АнтКин. С. 117-122) и небольшое число кратких фрагментов. Лит. деятельность Антисфена вызывала восхищение у последователей и насмешки у противников: так, философ-скептик Тимон из Флиунта (IV-III вв. до Р. Х.) называл Антисфена «плодовитым во всех областях болтуном» (Diog. Laert. VI 18; ср.: Hieron. Adv. Iovin. II 14). Хотя сочинения Антисфена известны лишь по названиям и кратким упоминаниям у древних авторов, ученые неоднократно предпринимали попытки предложить возможные гипотезы относительно их тематики и содержания. В совр. исследованиях сочинения Антисфена с т. зр. формы разделяются на 3 группы: речи, диалоги и трактаты; с т. зр. содержания их подразделяют на 4 класса: трактаты по логике и теории познания; этические сочинения; толкования поэм Гомера; риторические сочинения (Döring. 1998. S. 270-272; подробнее о сочинениях Антисфена см.: Patzer. 1970. S. 107-163; Giannantoni. 1990. P. 235-354).
Анализируя сообщения об Антисфене Диогена Лаэртского и др. древних авторов, историки философии отмечали в его учении и образе жизни как черты, сближающие его с последующими К., так и особенности, отделяющие его от них. В отличие от К. Антисфен проявлял значительный интерес к проблематике теории познания и логики. О его взглядах в этой области сохранились немногочисленные и противоречивые сведения, содержащиеся гл. обр. в сочинениях Аристотеля и его последующих комментаторов. Все источники единогласно свидетельствуют о том, что отправной точкой, определявшей размышления Антисфена о человеческом познании, было решительное неприятие им учения Платона об идеях, в рамках к-рого постулировалась возможность дать определение сущности некой вещи, возведя ее к трансцендентальной и нематериальной идее-первообразу. По свидетельству Симпликия, Аммония Гермия и др. авторов, Антисфен не принимал идеи вслед. того, что они не могут быть восприняты чувствами, заявляя Платону: «Я вижу лошадь, но не вижу лошадности; я вижу человека, но не вижу человечности» (см.: SSReliq. V A 149).
Следствием отвержения идей у Антисфена было убеждение в том, что не может быть дано вообще никакого определения сущности вещи. По словам Аристотеля, Антисфен и его последователи считали, что «невозможно определить суть вещи (τὸ τί ἔστιν), поскольку определение есть длинная речь (λόγον μακρόν); однако каково нечто (ποῖον τί ἐστιν),- это вполне можно выявить и объяснить» (Arist. Meth. VIII 3. 1043b; SSReliq. V A 150). Говоря об определении как о «длинной речи», Антисфен подразумевал, что во всякое определение включается больше одного понятия (логоса), вслед. чего получается, что простая сущность определяется через нечто сложное; такое определение, по его мнению, заведомо не может быть истинным (см. комментарий перипатетика Александра Афродисийского (II-III вв.): Alex. Aphrod. In Met. P. 553-554; АнтКин. С. 124-126. № 44B). Вместо определения сущности Антисфен предлагал описывать вещи через их эмпирически данные признаки, полагая, что выделение совокупности важнейших качеств вещи является надежным способом ее познания. Функция связующего звена между миром эмпирических восприятий и миром понятий у Антисфена возлагается на «имя» вещи. Согласно свидетельству Эпиктета в «Беседах», записанных стоиком Аррианом (II в.), Антисфен утверждал: «Начало образования - исследование имен» (ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις - Epict. Diss. I 17; SSReliq. V A 160). По мысли Антисфена, правильное употребление имен приводит к тому, что между вещами в познании образуются такие же связи, к-рые существуют между ними в реальности; именно эти связи схватываются затем в понятии (логосе), описывающем качества вещей. О том, как именно Антисфен рассматривал понятие-логос, свидетельствует его высказывание, приводимое Диогеном Лаэртским: «Логос есть нечто выявляющее (δηλῶν), чем что-то было или что оно есть» (Diog. Laert. VI 3). Т. о., у Антисфена понятие-логос «трактуется как словесное обозначение той или иной единичности, которая реально либо была, либо налична в настоящее время» (Лосев. 2000. С. 103); логос выражает через имена определенное наблюдаемое состояние вещи или положение дел. Лишь с учетом такого понимания логоса может быть корректно интерпретировано свидетельство Аристотеля и др. древних авторов о том, что Антисфен считал всякий логос истинным и не допускал существования противоречия (Arist. Met. V 29. 1024b; Idem. Top. I 11. 104b; SSReliq. V A 148, 152-153; АнтКин. С. 105. № 42-43). В соответствии с пояснениями неоплатоника Прокла (V в.), логика рассуждения Антисфена была следующей: «Говорящий высказывает нечто; высказывающий нечто высказывает сущее; высказывающий сущее высказывает истину» (Procl. In Cratyl. 37; SSReliq. V A 155). Возражая Антисфену, Прокл указывает на различие между понятиями «высказывать нечто» (τ λέγειν) и «высказываться о чем-то» (περί τινος λέγειν); однако Антисфен, вероятнее всего, намеренно снимал такое различие, считая, что всякий высказывающий логос как «связка» имени и вещи высказывает само сущее в его эмпирической данности, вслед. чего «ложный» логос, высказывающий не-сущее, вовсе не может существовать (совр. анализ теоретической философии Антисфена см.: Brancacci. 2005; ср. также: Döring. 1998. S. 272-275; Нахов. 1982. С. 75-85).
Хотя Антисфен не отказывался полностью от теоретической философии, но, ставя ее в зависимость от эмпирического познания, тем самым подчеркивал ее вторичность по отношению к философии как к «практике» в широком смысле. Учение о том, что «дела» предпочтительнее, чем «слова», ясно выражено в декламации «Аякс», в к-рой Аякс говорит судьям: «Слово по сравнению с делом (λόγος πρὸς ἔργον) не имеет никакой силы... только из-за недостатка дел говорятся долгие и пространные слова» (SSReliq. V A 53; АнтКин. С. 118-119). О том, что Антисфен разделял эти взгляды, свидетельствуют мн. древние авторы; так, согласно Диогену Лаэртскому, Антисфен учил, что «добродетель проявляется в делах (τῶν ἔργων) и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знания» (Diog. Laert. VI 11). Эту принципиальную позицию Антисфена подтверждает получивший широкую известность и ставший темой для стихотворения «Движение» (1825) А. С. Пушкина рассказ об опровержении Антисфеном парменидовского учения о невозможности движения: по свидетельству комментатора Элия, познакомившись с аргументами Зенона Элейского, к-рыми доказывалось, что «сущее неподвижно» (см. в ст. Апории), Антисфен не стал возражать на них словесно, а «поднялся и стал ходить, полагая, что доказательство делом сильнее всякого возражения словом» (Elias. In Categ. P. 109; ср.: SSReliq. V A 159; DK. 29A15; АнтКин. С. 132. № 60; эта история рассказывается и о Диогене - Diog. Laert. VI 39).
В практической философии Антисфена в узком смысле, т. е. в учении о надлежащем действии, обнаруживается значительное число параллелей как с учением Сократа, так и с последующим кинизмом. Следуя Сократу, Антисфен развивал учение о достаточности (автаркии) добродетели для достижения жизненного благополучия, или счастья. Промежуточное положение этики Антисфена между этикой Сократа и этическим учением К. отражено в его этической максиме, цитируемой Диогеном Лаэртским: «Добродетель достаточна для счастья (αὐτάρκη τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν) и не нуждается ни в чем, кроме сократовской силы (Σωκρατικῆς ἰσχύος)» (Diog. Laert. VI 11; SSReliq. V A 134). В 1-й части этого высказывания Антисфен точно следует Сократу, однако во 2-й части подчеркивает практико-аскетический характер добродетели в гораздо большей степени, чем это делал платоновский Сократ. Как и все сократики, Антисфен полагал, что высшая «цель» (τέλος) стремлений философа - это не просто знание о добродетели, но «жизнь, согласная с добродетелью» (τὸ κατ᾿ ἀρετὴν ζῆν - Diog. Laert. VI 104; SSReliq. V A 98). Однако для платоновского Сократа и мн. последующих сократиков такая жизнь «естественно» следует из знания о добродетели, поскольку познавший истинное благо с неизбежностью следует ему (см., напр.: Plat. Prot. 352-362; Idem. Charm. 173a - 174e; Arist. EN. IV 13. 1144b; подробнее см.: Кессиди Ф. Х. Сократ. СПб., 2001. С. 192-263), тогда как у Антисфена стремление приобрести добродетель требует специального приложения «силы» (ἰσχύς) и всегда сопряжено с тягостной работой над собой. Вместе с тем нельзя исключать, что учение об «упражнении в добродетели» излагалось историческим Сократом и было воспринято от него Антисфеном, а склонявшийся к этическому рационализму Платон намеренно его проигнорировал. В пользу этого свидетельствуют «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта, где Сократ прямо заявляет, что «занятия, соединенные с упорным трудом, ведут к достижению добродетельности» (Xen. Mem. II 1. 20).
Для иллюстрации того, какой должна быть добродетельная жизнь, Антисфен использовал образ мифического Геракла; вероятнее всего, именно от него К. заимствовали почитание Геракла как «идеального героя», «образцового киника». Хотя предпринимались попытки объяснить внимание Антисфена к Гераклу тем, что Киносарг располагался рядом с почитаемым афинянами алтарем Геракла, такое внешнее объяснение не учитывает принципиальной важности для кинической философии этого мифического героя. К IV в. до Р. Х. традиц. представления ранней греч. лит-ры (Гомер, Гесиод, Пиндар, Софокл, Еврипид) о Геракле как о герое, твердо переносящем внешние превратности судьбы и выпадающие ему по воле богов испытания (см.: Höistad. 1948. P. 22-28), трансформировались в аллегорическую концепцию героя-одиночки, внутренне и сознательно избирающего собственный жизненный путь, готового следовать добродетели невзирая на все трудности. Наиболее ярким выражением этой трансформации является притча «Геракл на распутье», созданная софистом Продиком (V-IV вв. до Р. Х.) и сохранившаяся в «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта, где ее пересказывает Сократ. В ней юному Гераклу являются 2 женщины, олицетворяющие одна - порочное удовольствие, другая - добродетель; каждая пытается доказать преимущество предлагаемого ею пути. Путь добродетели при этом - путь трудностей, поскольку «из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не дают людям без труда и заботы» (Xen. Mem. II 1. 28; ср.: Höistad. 1948. P. 31-33). Ориентируясь на представление о Геракле как о герое, подчинившем свою жизнь «упражнению в добродетели», Антисфен на его примере показывал, что следование добродетели не ведет к легкой и безмятежной жизни, однако возвышает и облагораживает человека, обеспечивая ему внутреннее счастье. Используя образ Геракла, а также хорошо известный его современникам по сочинению Ксенофонта «Киропедия» идеализированный образ персид. царя Кира II Великого (VI в. до Р. Х.), Антисфен утверждал, что «добродетели можно научить» (Diog. Laert. VI 10; ср.: Ibid. 2, 105; SSReliq. V A 99, 134), и, по-видимому, предлагал в своих несохранившихся сочинениях различные «методики» практико-аскетического «упражнения в добродетели», нек-рые из них стали общепринятыми в кинизме (см.: Höistad. 1948; Rankin. 1986. P. 101-134; Döring. 1998. S. 275-277). Хотя характерная для кинизма тенденция к предпочтению частной добродетели общему благу вполне ясно выражена у Антисфена, утверждавшего, что «в общественной жизни мудрец руководствуется не общественными законами, но законами добродетели» (Diog. Laert. VI 1. 11), в целом представления Антисфена об отношении индивида и об-ва были гораздо менее радикальными, чем последующее учение К. (см.: SSReliq. V A 68-78; ср.: Döring. 1998. S. 277-278).
Вопрос об отношении Антисфена к К. активно обсуждался исследователями с нач. XX в. На основании археологических находок в Синопе (монет) неск. учеными была предпринята попытка развить историческую аргументацию в пользу гипотезы о том, что Диоген не мог встречаться с Антисфеном в Афинах, вслед. чего связь между учением Антисфена и кинизмом является выдумкой К. (см., напр.: Seltman. 1930; Idem. 1938; Dudley. 1937. P. 1-24). В наст. время эта аргументация признана неубедительной и несостоятельной (критический обзор аргументов см.: Нахов. 1982. С. 44-49; см. также: Höistad. 1948. P. 6-12; Bannert. 1979; Döring. 1995. P. 128-133; Idem. 1998. S. 282-283); т. о., единственным доступным совр. исследователям способом решения вопроса о связи кинизма с Антисфеном является сопоставительный анализ имеющихся сведений о философском содержании учений Антисфена и Диогена. Большинство исследователей согласны с тем, что в философском учении Антисфена было предложено первоначальное теоретическое обоснование ряда принципиальных основоположений буд. кинизма, а в его личном образе жизни присутствуют нек-рые характерные черты образа жизни буд. К. Вместе с тем создание целостного кинического мировоззрения, т. е. кинизма как системы убеждений и подчиненного определенным практико-аскетическим нормам образа жизни, не может быть приписано Антисфену; оно является заслугой Диогена (Giannantoni. 1990. P. 226-233; The Cynics. 1996. P. 7).
Диоген Синопский
Согласно утверждениям древних писателей, Диоген родился в милетской колонии Синопа, бывшей в это время главным греч. торговым центром на юж. побережье Понта Эвксинского (Чёрного м.). Дату рождения Диогена на основании имеющихся сведений можно установить лишь приблизительно - нач. V в. до Р. Х. (возможно, ок. 405-403 гг. до Р. Х.- Döring. 1998. S. 281-282; Giannantoni. 1990. P. 421-422); по древнему преданию, которое согласуется с др. известными сведениями о жизни Диогена, он скончался в один день с царем Александром Великим (Македонским) - 13 июня 323 г. до Р. Х. (Diog. Laert. VI 2. 79; SSReliq. V B 92).
Отец Диогена, Гикесий, заведовал городским меняльным столом (δημοσία τράπεζα), т. е. был банкиром (τραπεζίτης), отвечавшим за определение ценности принимавшихся к обращению монет, а также, возможно, участвовал в выпуске городских монет (подробнее о монетарной системе этого времени см.: Bogaert R. Banques et banquiers dans les cités grecques. Leiden, 1968). В результате раскопок в Синопе были обнаружены монеты IV в. до Р. Х., имеющие клейма ΙΚΕΣΙΟ и ΙΚΕΣΙ; исследователи полагают, что эти клейма могли принадлежать отцу Диогена (см.: Seltman. 1930; Idem. 1938; Bannert. 1979). Известно неск. противоречивых версий рассказа о том, что Диоген вынужден был покинуть родной город из-за обвинений в «порче монеты», выдвинутых, по одним данным, против его отца, а по другим - также против него самого. Этот рассказ дополняется свидетельством о том, что Диоген будто бы неверно понял рекомендацию дельфийского оракула, объявившего, что Диогену следует παραχαράττειν τὸ νόμισμα,- в букв. смысле это выражение означает «перечеканку монеты», в т. ч. и такую, к-рая может изменить ее ценность, а в переносном смысле - «перемену сложившихся обычаев» (Diog. Laert. VI 20). Хотя посещение Диогеном оракула маловероятно и, по-видимому, является вымыслом доксографов, сама формула παραχαράττειν τὸ νόμισμα, скорее всего, действительно восходит к Диогену и использовалась им для описания его философской деятельности. Исследователи склонны считать, что негативный смысл «порчи монеты», т. е. намеренного искажения ценности монет (или фальшивомонетничества), был придан глаголу παραχαράττειν лишь в последующей традиции, тогда как первоначально у Диогена он мог означать «перечеканку» в нейтральном смысле; напр., такую, которая происходила при смене власти, когда монеты клеймились именем или изображением нового правителя (подробнее см.: Donzelli. 1958; Bannert. 1979; Giannantoni. 1990. P. 423-431). Будучи сыном банкира, Диоген знал о такой практике; используя двусмысленность слова τὸ νόμισμα (обычай/монета), он в ироничной и образной форме указывал на свою философию как на «переоценку общепринятых ценностей»; тогда как его аудитория могла понять это как признание в преступлении, связать с изгнанием из Синопы и создать соответствующую легенду (Bannert. 1979. S. 61-62). Т. о., хотя нельзя исключать, что Диоген был замешан в «порче монеты», вероятнее всего, он был вынужден покинуть Синопу не по уголовным, а по политическим причинам.
Среди исследователей нет согласия относительно датировки изгнания Диогена и его прибытия в Афины; наиболее интересной, хотя и недостаточно подтвержденной, является гипотеза о том, что изгнание Диогена связано с происшедшим ок. 370 г. до Р. Х. захватом Синопы персид. сатрапом Датамом (ум. в 362 г. до Р. Х.). В результате смены власти в городе отец Диогена мог потерять свое влиятельное положение; Диоген, отличавшийся дерзким и своевольным характером, возможно, вступил в конфликт с лояльными сатрапу городскими властями, в результате чего и был приговорен к изгнанию (Ibid. S. 52; ср.: Döring. 1998. S. 282-284). Эта версия согласуется с неоднократно встречающимся у древних авторов свидетельством о том, что Диоген был учеником Антисфена (см.: SSReliq. V B 17-24): если Диоген прибыл в Афины вскоре после 370 г. до Р. Х., он мог в течение неск. последних лет жизни Антисфена общаться с ним. Вопрос о том, действительно ли Диоген встречался с Антисфеном, остается в совр. науке дискуссионным и нередко решается отрицательно, однако даже наиболее критически настроенные исследователи признают, что Диоген по меньшей мере был знаком с сочинениями Антисфена и испытал влияние его идей (Dudley. 1937. P. 13; Long. 1996. P. 33). Заслуживающими доверия являются сообщения источников о том, что в Афинах Диоген встречался и вел полемику со мн. сократиками (в т. ч. с Платоном, Аристотелем, киренаиком Аристиппом, мегариком Евклидом), с ораторами (в т. ч. с Демосфеном), с афинскими гос. деятелями и др.; вместе с тем с т. зр. содержания мн. апофтегмы Диогена, будто бы относящиеся к его беседам с этими лицами, являются позднейшим вымыслом.
Согласно источникам, сразу же по прибытии в Афины Диоген начал вести кинический образ жизни. Некоторые исследователи предполагали, что в действительности Диоген выступал против мн. общественных установлений уже в Синопе, в Афинах же лишь нашел в философии Антисфена убедительное теоретическое обоснование того образа жизни, к-рый он вел и ранее (Dudley. 1937. P. 23-24). Однако более вероятно иное объяснение: в Афинах Диоген оказался без средств к существованию и был вынужден вести жизнь нищего. По словам Диогена Лаэртского, «будучи изгнанником, он повел самую простую жизнь» (Diog. Laert. VI 2. 21), прилагая к себе слова из трагедии: «Лишенный крова, города, отчизны, живущий со дня на день нищий странник» (Ibid. 38; SSReliq. V B 263; предположительно, измененная цитата из трагедии Еврипида; см.: Packmohr. 1913. P. 60-63). Диоген считал любое место «одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для беседы»; намеренно устроил себе жилище в большой глиняной бочке (πίθος); «желая закалить себя, летом перекатывался на горячий песок, а зимой обнимал статуи, запорошенные снегом» (Diog. Laert. VI 22-23). Интеллектуальной реакцией Диогена на трудные жизненные обстоятельства и стало его обращение к философии Антисфена, который из всех сократиков был наиболее радикальным противником традиц. общественных ценностей и проповедником умеренности и аскезы. При этом, по сообщению Диона Хризостома, Диоген видел слабость Антисфена как философа в том, что тот лишь рассуждал об аскезе, однако сам вел вполне традиц. частную и общественную жизнь: «Сравнивая самого Антисфена с его учением, он нередко упрекал его в недостаточной твердости» (Dio Chrysost. Or. 8. 2; SSReliq. V B 584; АнтКин. С. 327).
Источники содержат противоречивые сведения о жизни Диогена после смерти Антисфена. Мн. авторы сообщают о том, что он странствовал по городам Греции, проповедуя киническое учение, обличая пороки жителей и насмехаясь над общепринятыми нормами поведения и обычаями. Первоначальное приложение современниками к Диогену имени «собака» исследователи связывают с 2 введенными им отличительными чертами поведения К.: дерзкую свободу речи Диогена его противники сравнивали с собачьим лаем, а бесстыдное поведение - с поведением собак, традиционно считавшихся лишенными стыда животными (см., напр.: Diog. Laert. VI 26, 46). Хотя первоначально наименование «собака» было оскорблением со стороны его врагов (возможно, Платона), Диоген впосл. охотно сам прилагал его к себе, находя весьма удачной содержащуюся в нем аналогию с «естественной» жизнью животного (см., напр.: Ibid. 55, 60; SSReliq. V B 34; подробнее см.: Giannantoni. 1990. P. 491-497).
Согласно позднему свидетельству Диона Хризостома, Диоген жил то в Афинах, то в Коринфе (Dio Chrysost. Or. 6. 1); Диоген Лаэртский приводит рассказ о том, что во время одного из путешествий по пути в Эгину Диоген был захвачен пиратами и продан в рабство; его купил некий Ксениад, житель Коринфа, вскоре проникшийся уважением к учению и образу жизни Диогена, доверивший ему все свое хозяйство и сделавший его учителем 2 своих детей (Diog. Laert. VI 74-75). Совр. исследователи полагают, что этот рассказ не соответствует действительности и был выдуман киником-рабом Мениппом, автором несохранившегося соч. «Продажа Диогена», пытавшимся с его помощью продемонстрировать, что положение раба не препятствует следованию кинической философии (см.: Ibid. 99-100; ср.: Fritz. 1926. S. 22-26; Döring. 1998. S. 284-285). Факт пребывания Диогена в Коринфе, по-видимому, подтверждается тем, что, согласно доксографам, именно в этом городе Диоген беседовал со свергнутым сиракузским тираном Дионисием II Младшим, поселившимся здесь после 344 г. до Р. Х.; по сообщению Плутарха, Диоген насмешливо поздравил тирана с «незаслуженной» простой и счастливой жизнью в Коринфе, избавившей его от «заслуженного» положения властителя, к-рое Диоген назвал «рабским», т. к. оно связано с постоянным страхом потерять власть, богатство и саму жизнь (Plut. Vitae. Timoleon. 15; SSReliq. V B 54; АнтКин. С. 161. № 260). Здесь же, согласно источникам, произошла знаменитая встреча Диогена с Александром Македонским, посетившим Коринф вскоре после вступления на царство в 336 г. до Р. Х. Во время этой встречи, отвечая на предложение Александра обратиться к нему с любой просьбой, Диоген сказал: «Не заслоняй мне солнце» (Diog. Laert. VI 38; различные версии рассказа о встрече см.: SSReliq. V B 31-49); в кинической традиции эта реплика обычно интерпретировалась как образец презрения мудреца к земным благам и пренебрежительного отношения к могущественным властителям, которые никак не могут воздействовать на К., достигшего самодостаточности (автаркии). Хотя встреча с Александром, по-видимому, подтверждает факт пребывания Диогена в Коринфе, исследователи предлагали и иное объяснение сведений о коринфской жизни Диогена: они могли быть выдуманы ради обоснования вымышленной встречи Диогена с Александром, т. к. Афины Александр никогда не посещал (Schwartz. 1910. S. 4-5; ср.: Нахов. 1982. С. 58-59).
Местом смерти Диогена в большинстве источников называется Коринф, однако есть и указания на то, что он умер в Афинах. По версии, восходящей к его ученикам, Диоген умер, добровольно задержав дыхание; противники К. говорили, что он умер, съев сырого осьминога и заразившись холерой, или будучи искусан собаками. У Диогена Лаэртского также сообщается, что Диоген приказал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей и «принесло пользу его братьям», т. е. собакам; по-видимому, это распоряжение не было выполнено. Большинство доксографов утверждали, что ученики похоронили Диогена в Коринфе, «возле ворот, ведущих к Истму»; на его могиле был установлен столб, а на столбе - «собака из паросского камня» (Diog. Laert. VI 2. 76-79; ср.: Döring. 1998. S. 285; полную подборку свидетельств о смерти и погребении Диогена см.: SSReliq. V B 81-116).
В доксографической лит-ре содержатся противоречивые сведения о сочинениях Диогена: Диоген Лаэртский приводит почерпнутый из неизвестного источника список, включающий 13 диалогов, послания и 7 трагедий, однако он же отмечает, что античные биографы Сосикрат и Сатир считали все эти сочинения неподлинными, а биограф Сотион признавал подлинными 14 сочинений (Diog. Laert. VI 2. 80; ср.: SSReliq. V B 117-136). Наиболее достоверным источником сведений о произведениях Диогена являются сохранившиеся в корпусе геркуланских папирусов отрывки из трактата Филодема «О стоиках», в к-ром вопрос о сочинениях Диогена обсуждался в связи со спорами о подлинности соч. «Государство» (Πολιτεία) стоика Зенона Китийского (P. Herc. 155, 339; опубл.: Dorandi. 1982; ср.: SSReliq. V B 126). Согласно Филодему, сочинение Зенона было написано под влиянием «Государства» и трагедий Диогена и содержало идеи К.; первоначально все эти сочинения стоики признавали подлинными, о чем свидетельствуют, напр., высказывания стоиков Клеанфа и Хрисиппа, однако впосл., желая размежеваться с радикальными киническими воззрениями, стоики объявили неподлинными как «Государство» Зенона, так и все известные им сочинения Диогена, что и было отражено в доксографической традиции (см.: Goulet-Cazé. 2003). На основании свидетельства Филодема исследователи заключают, что Диоген написал как минимум неск. трагедий, а также трактат «Государство». При этом под «трагедиями», вероятнее всего, подразумеваются не традиц. сочинения этого жанра, а кинические пародии, в к-рых порицавшиеся обществом и осуждавшиеся в традиц. трагедиях пороки оправдывались и представлялись как естественные проявления человеческой природы (Dudley. 1937. P. 25-26; Giannantoni. 1990. P. 461-484; Döring. 1998. S. 285-287; Нахов. 1982. С. 61-63).
Внимание исследователей привлекало также упоминание в списке Сотиона сочинения Диогена «Изречения» (Χρείας). Термином χρεία в античной лит-ре обозначалось либо единичное меткое изречение по поводу некой ситуации, обычно вводившееся словами «некто сказал...», либо краткий (обычно из 2 реплик) диалог 2 лиц. Маловероятно, что Диоген записывал собственные изречения; по-видимому, этим занимались его ученики (Диоген Лаэртский свидетельствует, что некое соч. «Изречения» было написано киником Метроклом - Diog. Laert. VI 33). Различные сборники «Изречений» Диогена были известны среди К. уже в IV в. до Р. Х.; именно к таким сборникам, а не к сочинениям Диогена восходят почти все его высказывания, приводимые древними авторами. Оригинальные подборки изречений Диогена, составлявшиеся в IV-III вв. до Р. Х., не сохранились, однако их существование подтверждается как доксографической традицией, черпавшей из них сведения о Диогене и его взглядах, так и введенными в научный оборот в XX в. фрагментами папирусов, датируемых II-I вв. до Р. Х., к-рые содержат отдельные высказывания Диогена в форме χρεία (подробнее см.: Giannantoni. 1990. P. 466-474; тексты папирусов и комментарии к ним см.: Gallo. 1980; Bastianini. 1992). Высказывания Диогена и истории о нем неизменно включались в визант. сборники философских апофтегм (наиболее широко они представлены в «Антологии» Стобея, «Ватиканском гномологии» (Gnomologium Vaticanum), «Парижском корпусе» (Corpus Parisinum), приписывавшихся прп. Максиму Исповеднику «Богословских главах» (Loci communes); см.: Overwien. 2005. S. 18-21); при этом они подвергались лит. обработке и изменялись в зависимости от философских убеждений и лит. вкусов составителей таких собраний; нередко составители намеренно или по ошибке приписывали Диогену изречения и мнения др. философов. Первая попытка критического анализа нек-рых тематически важных изречений Диогена была предпринята в нач. XX в. нем. филологом А. Пакмором (Packmohr. 1913). В нач. XXI в. О. Овервин, опираясь как на публикации изречений в собраниях Муллаха и SSReliq., так и на оригинальные памятники, предпринял попытку лит. анализа и систематизации всех известных изречений Диогена; он привлек не только греч. источники, но и обширный материал, содержащийся в араб. сборниках апофтегм, антологиях и историко-философских сочинениях, наиболее ранние из к-рых относятся к IX в. (Overwien. 2005. S. 39-209). На основании анализа корпуса изречений Овервин предложил их условную систематизацию, разделив на группы в соответствии с теми качествами Диогена, к-рые в них описывались, а также с основными категориями кинической философии, к-рые они призваны иллюстрировать (Ibid. S. 235-390).
Наличие обширной и запутанной лит. традиции, связанной с именем Диогена, делает задачу выделения и систематизации его философских взглядов фактически невыполнимой. Имеющиеся источники не дают материала, к-рый позволил бы исследователям с уверенностью отделить исторического Диогена от его идеализированного лит. образа, а его подлинные высказывания - от тех убеждений и мнений, к-рые были приписаны ему последующими К. с целью их легитимизации (The Cynics. 1996. P. 7). На протяжении всего исторического развития кинизма наиболее важные для К. максимы практической философии, правила поведения, черты образа жизни объявлялись восходящими к Диогену, к-рый стал для К. идеальным мудрецом (σοφός), учителем жизни, образцом философа (Dudley. 1937. P. 18-19). Отнесение некоего поступка к Диогену или приписывание ему некоего мнения означало признание К. такого поведения или мировоззрения нормативным. Вслед. этого обширный философский материал, связанный с именем Диогена, будучи малопригодным для восстановления его исторического облика, вместе с тем является важнейшим и наиболее аутентичным источником сведений о философии кинизма, неформальным «каноном» кинизма (Солопова. 2008. С. 413), позволяющим выделить наиболее значимые для К. мировоззренческие принципы и понять кинизм как систему взаимосвязанных философских убеждений и базовых норм практического поведения.
К. в IV-I вв. до Р. Х.
Хотя Диоген не был основателем философской школы в классическом греч. смысле, т. е. не вел систематических теоретических занятий с учениками, доксографическая традиция свидетельствует, что многие из тех, кто под воздействием бесед с ним и его примера обратились к киническому образу жизни, считали себя его учениками и продолжателями его философской деятельности. Диоген Лаэртский сообщает, что последователями Диогена были Моним, Онесикрит, Кратет, Менандр, Гегесий Синопский, Филиск Эгинский и др. Из них больше всего сведений сохранилось о Кратете; о Мониме и об Онесикрите известны лишь краткие биографические данные, об остальных не известно ничего, кроме имен (Diog. Laert. VI 82-93; ср.: Döring. 1998. S. 285).
Кратет, наиболее известный из К. «второго поколения», происходил из Фив,- города, к-рый до его разорения Александром Македонским в 335 г. до Р. Х. был одним из наиболее богатых и могущественных в Греции. Время жизни Кратета можно установить лишь крайне приблизительно; предполагается, что он род. ок. 365 г. и скончался ок. 285 г. до Р. Х. (Döring. 1998. S. 297). Важное место Кратета в истории кинизма обусловлено тем, что в отличие от Антисфена и Диогена он происходил из знатного рода и стал приверженцем кинизма по идейным соображениям, посчитав под влиянием Диогена кинический образ жизни наилучшим и наиболее правильным. Где и при каких обстоятельствах Кратет познакомился со взглядами Диогена - неизвестно; исследователи предполагают, что он мог встречаться с ним во время путешествий, в Афинах или в Коринфе. На то, что Кратет практиковал киническую жизнь в родных Фивах до последних дней, косвенно указывает полулегендарная история о его встрече с Александром Македонским после разорения Фив (Diog. Laert. VI 93; SSReliq. V H 31; АнтКин. С. 171-172. № 9). Вместе с тем есть свидетельства о том, что в течение некоторого времени он жил в Афинах; так, Диоген Лаэртский рассказывает о его встречах с мегариком Стильпоном, посещавшим Афины (Diog. Laert. II 117-118). Противоречивость свидетельств исследователи объясняют желанием доксографов представить связь Кратета с Диогеном более тесной, чем она была в действительности (Long. 1996. P. 46; Döring. 1998. S. 298). Вероятнее всего, Кратет не был учеником Диогена долгое время и лишь воспринял от него основные идеи кинизма (Giannantoni. 1990. P. 561-579). Согласно Диогену Лаэртскому, обратившись к кинической философии, Кратет, по одной версии, все свое имущество продал и раздал вырученные деньги бедным гражданам Фив, а по др. версии - отдал земли под пастбища, а деньги бросил в море. Расставаясь с богатством, он произнес ставшие крылатыми слова: «Кратет дает свободу фивянину Кратету» (Greg. Nazianz. Or. 43. 60; Idem. Carmina. I. 2. 10. 234 // PG. 37. Col. 697; ср.: АнтКин. С. 173. № 18), подчеркивая тем самым, что никто не может освободить человека от порабощающих его привязанностей, кроме него самого. Такая решимость Кратета в следовании своим убеждениям сделала его образ весьма популярным в лит-ре; как античные моралисты, так и древние христ. писатели часто приводили его поступок в качестве образца презрения к земному богатству ради высшей цели (см.: SSReliq. V H 4-8). Подражая Диогену в образе жизни, Кратет отличался от него по характеру. Он пытался воздействовать на окружающих не резкостью и грубостью, а благожелательностью, и имел славу миротворца: «Он приходил в дома, раздираемые ссорами, и мирными словами разрешал споры»; возможно, именно от этого пошло его прозвище Отворяющий Двери (θυρεπανοίκτης - Diog. Laert. VI 86; см.: SSReliq. V H 17-18; АнтКин. С. 175. № 34).
Вокруг Кратета сложился круг единомышленников, практиковавших кинический образ жизни, куда входили Моним (см.: Döring. 1998. S. 302-304), Метрокл (Ibid. S. 304-305), Феомброт, Клеомен и др. (Diog. Laert. VI 94-95). Сестра Метрокла, Гиппархия, столь сильно полюбила «речи Кратета и его образ жизни», что отказалась от богатых женихов и решила вести совместно с Кратетом киническую жизнь; по словам Диогена Лаэртского, она «стала сопровождать мужа повсюду, ложиться с ним у всех на глазах и побираться по чужим застольям» (Ibid. 96-97). Пример Кратета и Гиппархии показывает, что засвидетельствованное в доксографической традиции презрительное отношение Диогена к женщинам как к постоянному источнику соблазнов не превратилось у К. в женоненавистничество: К. не отвергали естественную брачную связь между мужем и женой, но критиковали лишь беспорядочные связи ради развлечения и утоления похоти. Более того, в отличие от мн. др. философских школ К. признавали, что женщины способны к ведению «философской» жизни в той же мере, что и мужчины (Döring. 1998. S. 299; Нахов. 1982. С. 67-68). Философское влияние Кратета не огранивается кинической традицией: исследователи признают заслуживающим доверия сообщение источников о том, что учеником Кратета был основатель стоицизма Зенон Китийский (Diog. Laert. VI 9. 105; SSReliq. V H 37-39); однако такое же сообщение о стоике Клеанфе (SSReliq. V H 43), преемнике Зенона в стоической философской школе, вероятнее всего, представляет собой вымысел (Döring. 1998. S. 299).
Кратет и его сподвижники являются зачинателями кинической художественной и публицистической лит. традиции. По-видимому, именно среди учеников Кратета впервые были созданы и получили распространение сборники изречений Диогена; им же принадлежит заслуга создания жанра кинической диатрибы, развитого последующими К. Отказавшись от написания философских и научных трактатов, Кратет использовал для пропаганды кинических идей традиц. жанры поэтической греч. лит-ры того времени (лирические и драматические стихи, трагедии и комедии), но при этом нарушал все жанровые устои, пародируя и разрушая изнутри сложившиеся формы, полемизируя как с древними, так и с новыми, современными ему поэтами. Во всех сохранившихся фрагментах стихотворений Кратета (всего ок. 10; см.: SSReliq. V H 66-86; АнтКин. С. 170-173) царит дух насмешки и иронии; переиначивая сочинения греч. лит-ры, в к-рых восхвалялись боги, герои и их подвиги, Кратет превращал их в остроумную похвалу киническим идеалам (бедности, беззаботности, самодостаточности) и порицал тягу современников к удовольствиям и роскоши (см.: Нахов. 1981. С. 55-66). Последователь Кратета Менипп, ставший киником фиванский раб, известен как создатель жанра кинической, или менипповой, сатиры. По словам Диогена Лаэртского, «его книги были полны насмешек и острот» (Diog. Laert. VI 8. 99-101); его лит. стиль высоко оценивали Варрон и Лукиан, писавшие в подражание ему собственные сатиры, однако подлинных фрагментов его сочинений не сохранилось (Нахов. 1982. С. 68-69). По-видимому, в III в. до Р. Х. киническая лит-ра пользовалась большой популярностью и активно распространялась; отзвуки обычных для кинических авторов язвительных насмешек над богачами и восхваления простой природной жизни обнаруживаются во мн. сохранившихся поэтических фрагментах этого времени, напр. в отрывках сочинений Сотада из Маронеи, Феникса из Колофона, Керкида из Мегалополя, Леонида из Тарента и др. поэтов (см.: АнтКин. С. 202-210). Попытка рассмотреть творчество всех этих авторов как представителей кинической традиции была предпринята Наховым (см.: Нахов. 1981. С. 69-128); в западной науке преобладают более осторожные оценки, поскольку с уверенностью говорить о принадлежности поэтов к кинизму как к философской школе сохранившиеся источники не позволяют (см., напр.: Relihan J. C. Ancient Menippean Satire. Baltimore, 1993; Lomiento L., ed. Cercidas: Testimonia et fragmenta. R., 1993; López Cruces J. L. Les méliambes de Cercidas de Mégalopolis: Politique et tradition littéraire. Amst., 1995).
Особое место среди учеников Диогена занимает Онесикрит. О его жизни почти ничего не известно; источники сообщают лишь, что он участвовал в завоевательном походе Александра Македонского в Индию и написал несохранившееся соч. «О воспитании Александра» (Diog. Laert. VI 84). Важный фрагмент из заметок Онесикрита о походе, посвященный рассказу о встрече с инд. «гимнософистами» (этим термином греч. писатели и историки обычно обозначали приверженцев брахманизма, различных школ инд. йоги и вообще инд. аскетов), сохранился в пересказах Плутарха и Страбона. Согласно рассказу Онесикрита, гимнософисты ходили обнаженными, упражнялись в выносливости, «приучали свои тела к труду, чтобы укрепить духовные силы». Отвечая на вопрос гимнософиста о том, есть ли подобные учения в Греции, Онесикрит привел примеры учений Пифагора, Сократа и Диогена (Strabo. Geogr. XV 1. 63-65; Plut. Vitae. Alexander. 65; SSReliq. V C 1-4). Из текстов следует, что Онесикрит считал учение гимнософситов похожим на взгляды К.; схожесть отмечали и гимнософисты, заявляя, однако, что греки «слишком уж почитают законы» и потому не способны к всецело отрешенной жизни. В XX в. свидетельство Онесикрита использовалось для обоснования гипотезы о том, что кинизм имеет инд. корни, является чужеродным для Греции явлением и был воспринят Диогеном от к.-н. бродячего гимнософиста (см., напр.: Sayre. 1938. P. 38-46); большинство совр. ученых отвергают это мнение как ненаучное (Нахов. 1981. C. 6-7).
Обращение к киническому образу жизни не для всех К. оказывалось окончательным выбором, а идеи кинизма уже в IV-III вв. до Р. Х. нередко причудливо смешивались с идеями др. философских школ. Иллюстрацией этого служит рассказ Диогена Лаэртского о жизни и философской деятельности Биона Борисфенита (Diog. Laert. IV 46-58). Бион род. ок. 335 г. до Р. Х. (Döring. 1998. S. 306); согласно его рассказу, он в детстве был продан в рабство ритору, получил в наследство его состояние и на эти деньги приехал в Афины, где занялся философией (Diog. Laert. IV 46-47). По утверждениям доксографов, сначала он учился у последователей Платона (академиков), затем «обратился к киническому образу жизни, надел плащ и взял посох», потом принял учение киренаика Феодора Безбожника и стал его последователем; обучался он и у перипатетика Феофраста. Источники часто называют его «софистом» и приписывают ему жизнь, не похожую на аскетическую жизнь К.: как сообщает Диоген Лаэртский, он любил пышность, часто переезжал из города в город, однако не для того, чтобы обличать пороки жителей, как К., а для того, чтобы привлекать новых последователей и жить за их счет (Ibid. 53). Хотя исследователи отмечали, что негативные отзывы о Бионе в источниках могут восходить к его противникам и представлять его искаженный облик, не вызывает сомнений, что «кинизм» Биона значительно отличается от классического кинизма Диогена и Кратета. По-видимому, Бион желал совместить кинизм с гедонистическими направлениями современной ему греч. философии (прежде всего с учениями эпикурейцев и киренаиков), заимствуя из кинизма идеи свободы от общественных условностей и «бесстыдства», однако отказываясь от принципов бедности и аскезы и тем самым сводя кинизм к имморалистическому и атеистическому индивидуализму (Döring. 1998. S. 306-310; ср.: Dudley. 1937. P. 62-74; попытку представить Биона «истинным киником», вернувшим кинизм к «оптимизму» Сократа, см.: Kindstrand. 1976). Бион был автором многочисленных сочинений, однако даже заглавия большинства из них неизвестны. Древние авторы отмечали, что сочинения Биона отличались эклектическим характером: его речь была смешана из выражений разного стиля, вслед. чего говорили, что он «первым нарядил философию в пестрое одеяние» (Diog. Laert. IV 52). Мн. исследователи видели в этой оценке указание на то, что Бион был создателем особого рода лит. произведений, известных как «диатрибы».
Согласно Диогену Лаэртскому, Бион был автором соч. «Диатрибы», однако приводимый отрывок из него посвящен не учению К., а киренаику Аристиппу (Ibid. II 77). Исходя из того, что в сохранившихся под именем Телета достаточно крупных фрагментах диатриб несколько раз упоминается Бион и c одобрением приводятся его высказывания, исследователи сделали вывод, что «Диатрибы» Телета представляют собой лит. обработку или пересказ «Диатриб» Биона. В совр. науке эта гипотеза поставлена под сомнение; вместе с тем нельзя исключать, что кинические идеи Телет изучал по сочинениям Биона (см.: Fuentes González. 1998. P. 23-32). Понятие «диатриба» (διατριβή), не использовавшееся в жанровом смысле древнегреч. теоретиками лит-ры, было введено в научный оборот филологами в кон. XIX - нач. XX в. и постепенно стало применяться для объединения в одну группу достаточно разнородных сочинений, представляющих собой «непринужденные рассуждения на популярно-философскую моральную тему» (Нахов. 1981. С. 47). В XX в. понятие «диатриба» оказалось предметом научных дискуссий, в ходе которых были предложены различные варианты определения границ и особенностей этого вида лит-ры (обзор см.: Schmeller. 1987. S. 1-54; Fuentes González. 1998. P. 44-78). В наст. время существует как узкое представление о диатрибе, в рамках которого она определяется как этико-практическое наставление, обращенное от учителя к ученику, т. е. как схема преподавания, характерная для ряда философских школ (Fuentes González. 1998. P. 52-53; Stowers. 1984), так и широкое представление, согласно к-рому диатриба - «речь или проповедь, с которой философ обращается к аудитории, прозаический монолог, где ведется внутренняя дискуссия с воображаемым противником, или обмен репликами с таким же подразумеваемым собеседником»; эта речь намеренно упрощенная, с множеством разговорных слов и оборотов, имитирующая живой диалог, но при этом искусно вбирающая в себя материал из многочисленных разнородных источников: мифологии, поэзии, истории, философии (Нахов. 1981. С. 49-52).
Важность «Диатриб» Телета для понимания развития кинической философии определяется тем, что они являются 1-м достаточно крупным по объему памятником кинической лит-ры, сохранившимся до наст. времени в оригинальной или близкой к оригинальной форме (Fuentes González. 1998. P. 42-43). Вместе с тем философское значение «Диатриб» получало противоречивые оценки у исследователей; учение К. представлено здесь упрощенно, не в его первоначальном виде, но в эклектичном соединении с идеями стоицизма и «народной философии». Источником текста «Диатриб» является «Антология» Стобея, где они либо цитируются дословно, либо пересказываются с сокращениями (подробнее о текстологии см.: Ibid. P. 3-9). О жизни Телета ничего не известно; все сведения о нем, извлекаемые исследователями из текста «Диатриб», являются весьма условными. Предполагается, что «Диатрибы» были созданы Телетом между 260 и 240 гг. до Р. Х. (Döring. 1998. S. 312; Fuentes González. 1998. P. 35-36). Вероятно, Телет происходил из Мегары; сам он называет себя «учителем» (παιδαγωγός), что может быть понято как в прямом профессиональном смысле, так и в смысле кинического проповедника, видевшего свою задачу в том, чтобы «педагогически» обращать слушателей от их жизни в невежестве и страстях к кинической мудрости. Всего под именем Телета сохранилось 8 отрывков из диатриб; их заглавия, часть из к-рых дана Стобеем, а часть - совр. учеными, демонстрируют круг вопросов, интересовавших Телета: «О явлении и бытии», «Об автаркии», «Об изгнании», «О бедности и богатстве» (2 отрывка), «О том, что удовольствие не является предельной целью», «Об обстоятельствах», «О бесстрастии». Рассматривая ключевое для кинизма понятие «автаркия», Телет следует его интерпретации у Биона и замечает, что «человеку следует уметь сыграть роль, назначенную ему судьбой» (АнтКин. С. 180-181), ему нужно не «пытаться изменить обстоятельства», но менять «собственный характер» и «собственные ложные взгляды» (Там же. С. 182). Мудрец, согласно Телету, самодостаточен уже не столько потому, что он вернул свою жизнь к ее природной простоте, сколько в силу того, что он полностью отдался на волю судьбы. Восхваляемая Телетом любовь к бедности также оказывается не волевым выбором, как это было у Кратета, но искусством вести счастливую жизнь в трудных обстоятельствах. Телет не разделяет тенденции Биона к оправданию гедонизма, и заявляет, что в жизни гораздо больше неприятностей, чем наслаждений, поэтому поиск наслаждений не может доставить счастье (Там же. С. 196-197). Вместе с тем он не призывает мудреца намеренно искать страданий и трудностей; философия для него - искусство примирения с действительностью. В целом «Диатрибы» Телета свидетельствуют о снижении присущего первоначальному кинизму радикализма в противопоставлении индивида об-ву; преобладание в них концепции «покорности судьбе» (Там же. С. 182, 197, 201) демонстрирует, что уже в это время кинизм испытывал сильное влияние стоицизма (Нахов. 1981. С. 129-131; Döring. 1998. S. 312-313).
Датируемые сер. III в. до Р. Х. кинические стихотворения Керкида из Мегалополя и «Диатрибы» Телета являются последними известными в наст. время памятниками лит-ры раннего греч. кинизма. Отсутствие свидетельств о кинических философах и писателях во II-I вв. до Р. Х. послужило основанием для гипотезы о том, что в этот период, часто называемый в лит-ре «темными веками кинизма» (Нахов. 1981. С. 135), киническая философия находилась в упадке и почти полностью исчезла. Совр. исследователи указывают на чрезмерную категоричность такого вывода: отсутствие ярких кинических авторов может быть объяснено общим характером кинической философии, требовавшей от ее приверженцев не философских рассуждений, а практического переустройства жизни (Moles. 1983. P. 120-123). Лаконично и ярко изложенные в изречениях Диогена и подтвержденные примерами из его жизни основоположения кинизма не нуждались в дальнейшей теоретической обработке; попытки осмысления кинизма чаще всего исходили извне, тогда как сами К. предпочитали практическую реализацию своих принципов их обсуждению (Dudley. 1937. P. 117-118). О том, что кинизм в его первоначальной радикальной форме сохранял популярность среди греч. и рим. населения, свидетельствуют датируемые II-I вв. до Р. Х. папирусы, содержащие изречения Диогена (см.: Gallo. 1980; Bastianini. 1992; Нахов. 1981. С. 136-138), а также краткие упоминания о К., встречающиеся у рим. поэтов (Гая Луцилия, Децима Лаберия и др.) и писателей (Варрона, Цицерона и др.) этого времени (см.: Helm. 1924. Sp. 5; Нахов. 1981. С. 136, 144). Оценки учения К. в лат. лит-ре показывают, что для представителей рим. цивилизации республиканского периода кинизм представлялся возмутительным и безнравственным учением, несовместимым с рим. идеалом добродетели-доблести (virtus). Так, Цицерон писал: «Нужно отбросить все учение киников, ибо оно враждебно стыдливости (verecundia), а без нее нет ничего истинного и честного» (Cicero. De offic. I 41. 148; ср.: Ibid. 35. 128). Поэты и писатели, близкие к высшим слоям рим. об-ва, относились к К. издевательски и насмешливо (ср. строку Лаберия: «Сходи со мной в нужник, чтобы понять, что такое киническая секта (Cynica haeresi)» - Decimus Laberius. The Fragments / Ed. C. Panayotakis. Camb., 2010. P. 204, 221-224); однако в низших слоях рим. об-ва кинизм имел сторонников (ср.: Dudley. 1937. P. 118-121). По-видимому, отдельные приверженцы кинизма были и среди аристократии: так, из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха известно, что сенатор Марк Фавоний «ни во что не ставил свое достоинство» и нередко выступал с оскорбительными речами, отличавшимися «кинической откровенностью». Плутарх сообщает, как с помощью дерзкого кинического поведения Фавоний сумел добиться примирения полководцев Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина; т. о., Фавоний, подобно Кратету, был киником-миротворцем и использовал кинизм в своей деятельности, направленной на защиту рим. республики (Plut. Vitae. Brutus. 34; ср.: Dudley. 1937. P. 120-121; Goulet-Cazé. 1990. S. 2723-2724).
Изменение характера кинизма и снижение его популярности во II-I вв. до Р. Х. могут быть объяснены и внешними обстоятельствами, связанными с политическим кризисом эллинистической цивилизации. Кинизм был реакцией на размеренную и подчиненную устоявшимся правилам и обычаям жизнь греч. полиса; в условиях неопределенности и смены системы общественно-политических отношений стоическое стремление к стабильности и общественному порядку находило куда более сильный отклик, чем киническое стремление к анархической индивидуальной свободе. Характерный для эпохи всплеск интереса к различным религиозно-мистическим учениям также был неблагоприятен для кинизма, сторонники которого активно критиковали народную религию, суеверия и мистицизм. К I в. до Р. Х. кинизм фактически разделился на 2 течения: народно-маргинальное, представители к-рого, следуя идеалам Диогена, отказывались от изучения любых наук и от всякой теоретической деятельности (как философской, так и литературной), вели бродячую нищенскую жизнь и были постоянным объектом насмешливого презрения со стороны иных философских школ; и интеллектуально-моралистическое, в рамках к-рого первоначальные кинические ригоризм и аскетизм смягчались, а идеалы и принципы кинизма подвергались рационалистической интерпретации в духе стоицизма (Moles. 1983. P. 122; Нахов. 1981. С. 144-146). Внутренний конфликт этих течений определял развитие кинизма как школы эллинистической философии вплоть до его исчезновения в V в.
Кинизм в Римской империи (I-V вв.)
Становление Римской империи как мощного централизованного гос-ва, претендовавшего на мировое политическое и культурное господство, способствовало возрождению кинизма и появлению серьезного интереса к нему среди рим. населения. В условиях доминировавшей имперской идеологии, обожествлявшей императоров и объявлявшей их волю высшим законом, вновь стали востребованы разнообразные формы индивидуального протеста против общественной несправедливости и гос. произвола. Рим. кинизм в I-II вв. существовал бок о бок со стоицизмом и часто воспринимался как его радикализированная версия; так, сатирик Децим Юний Ювенал в нач. II в. писал, что стоик отличается от киника только одеждой (Juvenal. Satir. V 13. 120-122). Вместе с тем как сами К., так и философски образованные рим. писатели отличали кинизм от стоицизма, поэтому, хотя на практике у мн. философов и писателей этой эпохи кинические и стоические идеи эклектически смешивались, говорить о полном слиянии этих философских школ нельзя. Выделение характерных черт рим. кинизма осложнено тем, что многочисленные сведения о нем по большей части восходят не к К., а к авторам, занимавшим иную философскую позицию и обсуждавшим взгляды К. со своей т. зр. и для собственных целей; немногие приводимые ими цитаты из кинических сочинений не позволяют судить о целостном мировоззрении философов-киников.
Негативное влияние на восприятие образованными кругами Римской империи стоиков и К. оказывала деятельность «бродячих философов», известных с III в. до Р. Х. и ставших особенно многочисленными к I в. по Р. Х. Эти философы, отчасти действительно следовавшие своим убеждениям, а отчасти бывшие мошенниками и шарлатанами, вели нищенскую жизнь на площадях и улицах, постоянно докучали состоятельным гражданам просьбами о милостыне, предлагали взамен незамысловатые философские поучения или, по выражению их противников, «вопили о всем известных, избитых вещах... и просто-напросто поносили всех» (Lucian. De morte Peregrini. 3). Уже у Тита Макция Плавта (III-II вв. до Р. Х.) такого рода К. сравниваются с «паразитами», живущими за чужой счет (Plaut. Pers. 123-126). Марк Валерий Марциал (2-я пол. I в.) c презрением упоминает о «жалких киниках и стоиках» (Martial. Epigr. XI 84; ср.: Ibid. III 93). В одной из его эпиграмм представлен яркий образ современного ему киника: это старик с седыми волосами и грязной бородой, в засаленном плаще, с палкой и сумой, к-рому толпа «подает пищу за лай»; «никакой он не киник, а просто пес»,- унижающе завершает Марциал описание (Ibid. IV 53). В том же духе о рим. К. писали Петроний, Авл Геллий и др. лат. авторы (Нахов. 1981. С. 148; Döring. 2006. S. 56-57). О жизни бродячих К. в Александрии красноречиво свидетельствует Дион Хризостом; по его словам, эти К. во множестве собираются «на перекрестках, в рощах для прогулок, близ храмовых ворот, выпрашивают подаяние, вводят в заблуждение юношей, моряков и других лиц того же рода, производя на свет грубые шуточки и непристойные сплетни, подходящие только для рынка». Их деятельность, по убеждению Диона, «не приносит никакой пользы, но служит источником самого худшего зла, поскольку, глядя на них, люди учатся относиться с презрением вообще ко всем философам» (Dio Chrysost. Or. 32. 9). Гротескная и неприглядная картина деятельности бродячих К. представлена в диалоге Лукиана «Беглые рабы», где К. отождествляются с «беглыми рабами или поденщиками», к-рые из лени и тщеславия решили стать «философами» и избрали кинический образ жизни, поскольку он не требует никаких знаний и не налагает никаких обязанностей. По словам Лукиана, «весь город наполнился бездельниками», к-рые, «записавшись в число последователей Диогена, Антисфена и Кратета» и «выступая под знаком пса», ходят из дома в дом и «собирают дань» с тех, кому неудобно отказать философам; они в точности усвоили все худшие черты собачьей природы: «собачий лай, прожорливость, похотливость, льстивое вилянье перед подачкой и прыжки вокруг накрытого стола» (Lucian. Fug. 12-16). Исследователи отмечают, что подобные оценки следует воспринимать с осторожностью: хотя мн. бродячие К. действительно могли быть мошенниками, само по себе осуждаемое образованными писателями на основании их представлений о кинизме поведение К. точно соответствовало заданному Диогеном идеальному образцу, так что истинными К. нередко были именно уличные философы (Moles. 1983. P. 123; Нахов. 1981. С. 148, 220).
Центром деятельности К. в I-II вв. были крупные города, прежде всего Рим и Александрия. С одной стороны, это объясняется прагматическими причинами, поскольку среди богатой городской аристократии К. было проще найти себе покровителей; с др. стороны, это могло быть реализацией провозглашенного Диогеном принципа «идти к больным», т. е. проповедовать истинную философию там, где люди более всего погрязли в невежестве и пороках (подробнее см.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2731-2746). О деятельности александрийских К. известно не много. В совр. науке предлагалась гипотеза, что они были активными участниками александрийских восстаний против рим. господства и что их взгляды отражены в памятнике, известном как «Акты языческих мучеников Александрии» (Acta Alexandrinorum), однако эти тексты не имеют философской нагрузки и свидетельствуют более о гражданском мужестве и греческом патриотизме мучеников, чем об их кинических убеждениях (ср.: Нахов. 1981. С. 149-153). Вместе с тем источники подтверждают, что и в Александрии, и в Риме, и в др. городах Римской империи К. нередко выступали против злоупотреблений власти, хотя и не столько с политических, сколько с философско-моралистических позиций. К. не боялись бросать вызов даже могущественным рим. императорам: киник Исидор был изгнан имп. Нероном (54-68) из Рима, т. к. громко крикнул при всех императору, «что о бедствиях Навплия (древнегреч. герой.- Д. С.) он поет хорошо, а со своими справляется плохо» (Suet. Nero. 39); некие К. Диоген и Герас в 70-х гг. I в. высмеивали любовную связь буд. имп. Тита (79-81) с Береникой, за что Диоген был подвергнут порке и изгнан, а Герас - казнен (Dio Cassius. Hist. Rom. LXV 15; ср.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2752-2759).
Киническая философия I-II вв.
Наиболее влиятельным рим. киником в I в. был Деметрий. Сведения о нем сохранились благодаря тому, что он был близко знаком с писателем, моралистом и философом-стоиком Сенекой и неоднократно упоминается в его сочинениях; кроме того, важные, хотя и не всегда достоверные, упоминания о нем встречаются в сочинении Флавия Филострата (170-247) «Жизнь Аполлония Тианского» и у Эпиктета. Точная дата рождения Деметрия неизвестна. Он не был уроженцем Рима и, вероятно, прибыл в столицу в 30-х гг. I в. (Billerbeck. 1979. S. 10; Kindstrand. 1980. S. 84-85); при имп. Калигуле (37-41) Деметрий был уже хорошо известен в Риме. Согласно сообщениям Сенеки, Деметрий вел строго аскетический образ жизни: он был «беднее всех из своей школы», ходил полуодетым и спал на голой земле; если др. К. «запрещали себе иметь, то он запрещал себе и просить», более того - отказывался от чрезмерных подаяний (Seneca. De vita beat. 18. 3; Idem. Ep. 62. 3). Так, по словам Сенеки, Деметрий отказался от 200 монет, предложенных ему имп. Калигулой, заявив, что не допустит, чтобы такая ничтожная сумма изменила его убеждения (Idem. De benefic. VII 10; Billerbeck. 1979. S. 26-27). Следуя киническому идеалу необразованности, Деметрий призывал не приобретать излишние знания, утверждая, что единственная полезная для человека наука - это познание самого себя и выработка правильного отношения к жизни. Сравнивая Деметрия с др. философами, Сенека видел его неоспоримое преимущество в том, что он являлся «не только проповедником (praeceptor), но и свидетелем (testis) истины» (Seneca. Ep. 20. 9), т. е. не просто учил надлежащему поведению, но демонстрировал его всей своей жизнью.
Приписываемые Сенекой Деметрию «правила жизни» близки к стоическим: Деметрий призывает во всем служить добродетели, «открывать совесть богам» и жить как бы перед их взором; отказываться от наслаждений и приобретать бесстрастие; преодолевать страх перед смертью и видеть в ней лишь прекращение тягот жизни (Idem. De benefic. VII 1-2; ср.: Idem. De prov. 5). Идеализированный образ Деметрия у Сенеки дополняется сообщениями рим. историков, видевших в К. возмутителей спокойствия и вслед. этого отзывавшихся о них неодобрительно. Согласно источникам, Деметрий выступал с критикой имп. Нерона, был дружен с лидером стоической оппозиции Нерону сенатором Публием Клодием Тразеей Петом и присутствовал при его вынужденном самоубийстве в 66 г. Вскоре после этого Деметрий был изгнан из Рима; он вернулся в столицу при имп. Веспасиане (69-79), однако ок. 71 г. был изгнан и этим императором вместе со мн. стоическими и киническими философами, к-рых обвинили в том, что они «публично проповедуют неподобающие учения» и смущают добропорядочных граждан (Dio Cassius. Hist. Rom. LXV 12-13; подробнее о политической деятельности Деметрия см.: Dudley. 1937. P. 128-137; Kindstrand. 1980. S. 94-98; Moles. 1983). Даже после изгнания Деметрий оставался верен киническому свободолюбию; согласно историку Светонию, встретив имп. Веспасиана, Деметрий «не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на него лаяться», в ответ на что император презрительно назвал его псом (Suet. Vesp. 13).
О двух др. К. I-II вв. известно из посвященных им диалогов Лукиана: «Жизнеописание Демонакта» (Lucian. Demon.) и «О кончине Перегрина» (Idem. De morte Peregrini). Эти К. ярко представляют 2 наиболее сильных течения в кинизме этого времени: Демонакт прославился как скептик и атеист, тогда как Перегрин был мистиком и аскетом (Dudley. 1937. P. 178). Демонакт родился на Крите, после обращения к занятиям философией переехал в Афины, где и провел остаток жизни. Согласно Лукиану, Демонакт был учеником Деметрия; во внешности и в стремлении к бедности он подражал Диогену, однако при этом не принимал всецело кинического образа жизни и не нищенствовал: «Он ел и пил вместе со всеми, был прост в обращении, лишен малейшего самомнения и держал себя как рядовой член общества и гражданин государства» (Lucian. Demon. 5). В учении Демонакт соединял положения мн. философских школ, говоря о себе: «Я благоговею перед Сократом, восхищаюсь Диогеном и люблю Аристиппа» (Ibid. 62). Хотя передаваемые Лукианом высказывания Демонакта свидетельствуют, что он был более моралистом-эклектиком, чем киником, в его поведении и высказываниях прослеживается явное стремление заимствовать лучшее из раннего кинизма. Он ценил «прямоту речи и независимость мысли» (Ibid. 11); нападал на народные суеверия (Ibid. 23, 34, 37); обличал ложных К., «философствующих не ради истины, а напоказ» (Ibid. 48); насмехался над людьми, желающими постичь тайны мироздания, и при этом даже не задумывающимися о том, что они ведут порочную жизнь (АнтКин. С. 277. № 6; ср.: Billerbeck. 1996. P. 215-216; Нахов. 1981. С. 154-155).
Гротескное изображение Лукианом противоречивой фигуры Перегрина (или Протея), реального исторического лица, содержит важный материал, позволяющий судить о том, как понималось в I-II вв. языческими писателями отношение между кинизмом и христианством. Согласно Лукиану, Перегрин бежал из родного города из-за обвинений в прелюбодеянии и убийстве собственного отца; он скитался по разным землям, пока в Палестине не познакомился с учением христиан (Lucian. De morte Peregrini. 9-11). Если верить Лукиану, Перегрин стал руководителем христ. общины (возможно, епископом), толковал Свящ. Писание и почитался как пророк. Во время гонений он был схвачен и помещен в тюрьму, что еще больше усилило его славу, так что христиане из разных городов посещали его в тюрьме и жертвовали ему деньги. Лукиан, убежденный противник христианства, не осуждает здесь христиан, но лишь отмечает, что они вслед. простоты и доверчивости являются легкой добычей для обманщиков, использующих новую религию ради наживы. Вскоре Перегрин был выпущен из тюрьмы; он странствовал по разным городам одетый как киник, вначале проповедуя христианство, а затем, после того как по неизвестным причинам был отлучен от христ. общины, уже практикуя чистый кинизм. Из рассказа Лукиана следует, что Перегрин выставлял напоказ 3 кинические добродетели: бесстыдство, как и Диоген, ведя всю свою жизнь на публике; аскезу, закаляя тело упражнениями; свободу речи, браня и обличая императора и др. высокопоставленных лиц (Ibid. 11-19). Перегрина повсюду окружали восхищавшиеся им К.; по их мнению, по добродетели он был выше Диогена и Сократа и равен богам (Ibid. 5). О том, что Перегрин был скорее увлекающимся фанатиком, чем наглым мошенником, каким представляет его Лукиан, свидетельствует упоминание о нем у Авла Геллия, который сообщает, что лично встречался с ним в Афинах, оценивает его как «человека серьезного и положительного» и замечает, что «слышал от него много полезного и правдивого» (Aul. Gell. Noct. XII 11). Заявление Перегрина, что он намеревается сжечь себя живым, вызвало ожесточенные споры о том, является ли он тщеславным безумцем, или же подлинным философом, готовым в самом себе предложить образец кинического презрения к смерти. Лукиан придерживался 1-го мнения (Lucian. De morte Peregrini. 22, 38), однако отмечал, что почти все К. видели в Перегрине героя. Сам Перегрин сравнивал себя с Гераклом, излюбленным героем К., и утверждал, что «тот, кто жил, как Геракл, должен и умереть, как Геракл», т. е. добровольно взойти на костер (Ibid. 33). Самосожжение Перегрина состоялось в 165 г. в Олимпии, сразу после Олимпийских игр, при значительном стечении народа и в присутствии мн. К., одобрявших этот поступок (Ibid. 35-36). Хотя случаи добровольного ухода К. из жизни были широко распространены и не вызывали удивления, публичное самосожжение Перегрина является уникальным событием в истории кинизма. Совр. исследователи отмечают явную предвзятость Лукиана; его версия о том, что поступок Перегрина был мотивирован жаждой славы, вызывает серьезные сомнения; вероятнее всего, истинной целью Перегрина было привлечение внимания к киническому учению скандальным поступком, что вполне согласуется с принципами кинизма (см.: Bagnani. 1955; Dudley. 1937. P. 170-182; Döring. 2006. S. 62-64; Goulet-Cazé. 2008. Sp. 677-680; Нахов. 1981. С. 155-156).
История Перегрина подтверждает, что в Римской империи I-III вв. христианство и кинизм часто соприкасались как на уровне повседневной жизни, так и в области идей, преимущественно практико-аскетических. Нек-рые исследователи полагали, что Перегрин практиковал чрезмерный «кинический» аскетизм еще тогда, когда он был христианином, и объясняют его разрыв с христианством желанием христ. общин отмежеваться от радикальных форм аскетизма, к-рые в свою очередь могли возникать среди христиан в т. ч. и под влиянием кинизма (Bagnani. 1955. S. 111-112). Так, из приписываемого Ипполиту Римскому соч. «Опровержение всех ересей» известно о существовании ереси энкратитов, строгих аскетов, воздерживавшихся от мн. видов пищи и супружеских отношений; при этом автор прямо говорит, что они «более являются киниками, чем христианами» (Hipp. Refut. VIII 7). О Перегрине (под именем Протей) упоминает христ. апологет Татиан по нек-рым данным основатель или активный деятель движения энкратитов (см.: Euseb. Chron. // PG. 19. Col. 563); он крайне отрицательно оценивает обращение Перегрина к кинизму: «О человек, соревнующийся с псом, ты не знаешь Бога и оттого перешел к подражанию бессловесным. Поднимая крик на людях, ты убедительно защищаешь сам себя; если не получаешь - бранишься, и философствование становится у тебя искусством добычи» (Tat. Contr. Graec. 25). Обращение из кинизма в христианство и из христианства в кинизм не было редкостью и во II в., и в более позднее время. Так, из сочинений свт. Григория Богослова известно об обратившемся в христианство кинике Максиме (Ироне). Практиковавший киническую жизнь в молодые годы Максим, прибыв в К-поль, представился убежденным исповедником никейского православия и вошел в доверие к свт. Григорию, посвятившему ему похвальное слово (Greg. Nazianz. Or. 25). Вскоре, однако, он вступил в сговор с арианами и др. противниками свт. Григория; был незаконно рукоположен ими во епископа К-польского. Непризнание его хиротонии народом и императором вынудило Максима бежать из К-поля и отказаться от притязаний на кафедру (см.: Idem. De vita sua. 552-1912); о его дальнейшей судьбе ничего не известно (ср.: Dudley. 1937. P. 203-206; Goulet-Cazé. 2008. Sp. 680-682; подробнее см.: Mossay. 1982; Goulet-Cazé. 1990. S. 2791-2795; Eadem. 2005).
Негативные суждения Лукиана о Перегрине и намеки на то, что христианство и кинизм одинаково используются всевозможными мошенниками для собственных корыстных и тщеславных целей, во многом объясняются тем, что близкие к языческой аристократии Римской империи писатели, с презрением относившиеся к любым мировоззренческим течениям, распространенным среди простолюдинов, мало интересовались сущностью учений кинизма и христианства, поверхностно и высокомерно осуждая кинизм как «простонародную философию», а христианство - как «простонародную религию». Защитники традиц. языческого богопочитания соединяли в одну группу К. и христиан также по той причине, что и те и другие насмешливо и пренебрежительно относились к языческих богам, отказывались приносить им жертвы и участвовать во всенародных религ. обрядах, т. е., с т. зр. язычников, были безбожниками и богохульниками. Показательным является суждение ритора и софиста Элия Аристида (II в.), писавшего о бродячих К.: «В своих обычаях они напоминают нечестивую секту, происходящую из Палестины (т. е. христиан.- Д. С.), поскольку как у ее приверженцев признаком их нечестия является то, что они не почитают высшие силы (т. е. языческих богов.- Д. С.), так и эти [философы] отделяют себя от всех эллинов, от всего божественного и высокого» (Aelius Aristides. Oratio III // Idem. Opera quae exstant omnia. Leiden, 1978. Vol. 1. Fasc. 3. P. 514-515; ср.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2782-2788; Eadem. 2008. Sp. 668-669).
Наиболее ярким представителем атеистического кинизма во II в. был Эномай Гадарский. Его кинические и антирелиг. сочинения пользовались широкой известностью до III-IV вв.; так, имп. Юлиан Отступник с возмущением критиковал взгляды Эномая как «безбожный кинизм». Отрывки из трактата Эномая «Против оракулов» (др. название - «Изобличение обманщиков») сохранились благодаря тому, что Евсевий, еп. Кесарии Палестинской, в соч. «Приготовление к Евангелию» дословно приводит ряд его аргументов против языческих предсказаний будущего, восхищаясь их «кинической язвительностью» (Euseb. Praep. evang. V 21 // PG. 21. Col. 365). Фрагменты Эномая не позволяют судить о специфике его кинических убеждений; известно лишь его утверждение, что кинизм не является ни «антисфенизмом», ни «диогенизмом» (οὔτε ᾿Αντισθενισμός ἐστιν οὔτε Διογενισμός - Julian. Apost. Or. 9. 6. 187). Возможно, с помощью такого отделения кинизма от его известных «основателей» Эномай противостоял стоическим попыткам идеализировать образы Антисфена и Диогена и указывал, что кинизм является не слепым повторением их слов и поступков, но практической реализацией базовых философских принципов, к к-рым всякий способен прийти самостоятельно (Нахов. 1981. С. 157). Предлагаемая Эномаем критика языческих суеверий и веры в прорицания соединяет кинические и стоические элементы: из кинизма в ней заимствованы дерзость и грубость речи, язвительные насмешки, а также философская уверенность в том, что земное существование человека подвластно ему самому и не нуждается во внешней детерминации; из стоицизма - тонкое и логически безупречное выстраивание рациональных аргументов. Эномай защищает представление о человеческой свободе, обосновывая его достоверностью для всякого человека его собственных ощущений, и выступает против любого детерминизма, в т. ч. и стоического; не отвергая важное для стоицизма представление о судьбе и необходимости, он вместе с тем не допускает, что боги или возвещающие их волю пророки могут заранее знать судьбу человека; эта судьба слагается самим человеком и зависит от его жизненных выборов (см.: АнтКин. С. 285-315; ср.: Нахов. 1981. С. 157-160). Мн. критические аргументы Эномая использовались впосл. как языческими (Лукиан, Плутарх), так и христ. (Климент Александрийский, Ориген, Евсевий) писателями (подробнее см.: Hammerstaedt. 1988; Idem. 1990).
Попытка предложить осмысление истории кинизма и основных принципов кинического учения в практико-нравоучительной перспективе была предпринята неизвестными авторами «Писем киников» (совр. изд.: Malherbe. 1977; Müseler. 1994; ср.: SSReliq. Vol. 2. P. 423-464, 561-576; рус. пер.: АнтКин. С. 218-266). О происхождении, времени и целях создания псевдоэпиграфических писем ничего не известно; в исследовательской лит-ре предлагалась как ранняя (I в. до Р. Х.), так и поздняя (I-II вв. по Р. Х.) датировка различных писем корпуса (см.: Giannantoni. 1990. P. 551-553). В основе писем лежат творчески обработанные подлинные и вымышленные сведения о К.; авторы активно пользовались различными сборниками изречений древних кинических философов (Антисфена, Диогена и Кратета), однако едва ли были знакомы с их сочинениями, вслед. чего содержание писем мало что добавляет к историческим образам Диогена и Кратета, известным из сообщений доксографов. Тематически письма распадаются на 2 большие группы: письма единомышленникам и письма врагам (анализ содержания см.: Нахов. 1981. С. 165-178; Döring. 2006. S. 68-74). В письмах 1-й группы излагаются и подтверждаются примерами принципы кинизма, даются образцы надлежащего кинического поведения, в т. ч. и кинического «бесстыдства» (см., напр.: АнтКин. С. 238-239. № 45; С. 249. № 44), что явно указывает на происхождение писем из кинической среды. Для мн. писем характерна идеализация Диогена как «отца» кинизма, «небесной собаки» (Там же. С. 220. № 7; С. 256. № 16); фигура Антисфена отходит в тень, однако его роль как наставника Диогена признаётся: «Философствовать нужно не так, как другие, но следовать тому, чему положил начало Антисфен и что привел к совершенству Диоген» (Там же. С. 253. № 6). Жизнь кинического философа в письмах преподносится как «короткий, но крутой и трудный» путь к счастью; к истинному счастью, т. е. к свободе от страстей и самодостаточности, «следует идти даже сквозь огонь», т. е. невзирая на любые трудности и страдания (Там же). В письмах врагам кинизма (царям, богачам, философам иных убеждений, самодовольным гражданам) проводится последовательная апология кинизма, защита кинического образа жизни от разнообразных нападок; мн. из этих писем содержат выдержанные в духе кинической «свободы речи» нападки на собеседников и могут служить показательной иллюстрацией того, как могли в действительности выглядеть оскорбительные и дерзкие кинические обличения (см., напр.: Там же. С. 228-232. № 28-29; С. 246-248. № 40; С. 253-254. № 7). Значительный интерес представляют встречающиеся в письме Кратета Гиппархии наставления о том, как воспитывать новорожденного сына, чтобы он стал истинным киником (Там же. С. 263. № 33), косвенно свидетельствующие как о допустимости для автора писем кинического брака, так и о возможном существовании среди К. этого времени некой методики кинического воспитания детей (см.: Billerbeck. 1996. P. 210-211). К идеализированным фигурам кинических мудрецов из «Писем киников» по философскому содержанию близок образ кинического философа, представленный в диалоге «Киник» (см.: АнтКин. С. 355-364), к-рый сохранился под именем Лукиана, однако, вероятнее всего, был написан его неизвестным подражателем, придерживавшимся кинических убеждений (о проблеме авторства и датировке см.: Bieler. 1891; ср.: Billerbeck. 1996. P. 214; Нахов. 1981. С. 261). В центре диалога находится предлагаемая киником как образец и защищаемая с помощью примеров (Геракл, Тесей) и посредством рациональных (и даже софистических) доводов киническая умеренность, т. е. умение «нуждаться в немногом и довольствоваться малым» (АнтКин. С. 360-361). Обычные люди «несутся, куда угодно их страстям», они ищут в собеседниках внешней эффектности и насмехаются над грубым обликом киника, тогда как он скрывает под внешней неопрятностью внутреннюю свободу, отпугивая глупцов и привлекая людей «тонкого ума и строгой совести, желающих стать лучше» (Там же. С. 363; ср.: Hahn. 1896. P. 31-34).
Кинизирующие философы
Деметрий, Демонакт, Перегрин, Эномай и др. кинические философы I-II вв. при всех различиях в их деятельности и убеждениях были едины в желании вернуться к подлинному радикальному греческому кинизму. Напротив, для кинизирующих писателей и философов, противопоставлявших «грубым киникам» и «псевдокиникам» идеализированные образы К., характерно желание усвоить кинические идеи в смягченной и облагороженной форме, по возможности лишив кинизм присущего ему духа скандальности и эпатажа. В речах Диона Хризостома кинические идеи представляются с минимальными искажениями, почти в их первоначальном виде, однако при этом дополняются явными и скрытыми авторскими размышлениями, превращающими кинизм из формы протеста индивида против об-ва в способ примирения с любой действительностью. Такая интерпретация кинизма у Диона была во многом обусловлена его личными жизненными обстоятельствами. Талантливый оратор и друг мн. рим. аристократов, Дион был приговорен к изгнанию из Рима имп. Домицианом (81-96) ок. 82 г., после казни по обвинению в заговоре против императора Тита Флавия Сабина, бывшего покровителем Диона. Длившееся ок. 14 лет изгнание Дион провел в странствиях по отдаленным провинциям Римской империи и варварским землям; он был вынужден вести простую жизнь и зарабатывать себе на хлеб поденной тяжелой работой. Хотя Дион не относил себя формально к К., фактически он стал похож на них как во внешнем облике (бедная и грязная одежда, борода, котомка нищего), так и в философских убеждениях, нашедших отражение в его речах этого периода, к-рые он нередко произносил перед такими же, как он, бедняками (Dudley. 1937. P. 150-151). Выработанное Дионом понимание кинизма наиболее ясно представлено в неск. речах т. н. диогеновской группы (см.: SSReliq. Vol. 2. P. 465-500): «Диоген, или О тирании» (Dio Chrysost. Or. 6; АнтКин. С. 315-327), «Диоген, или О добродетели» (Dio Chrysost. Or. 8; АнтКин. С. 327-334), «Об истмийских состязаниях» (Dio Chrysost. Or. 9; АнтКин. С. 334-339), «Диоген, или О рабах» (Dio Chrysost. Or. 10; АнтКин. С. 339-348), «О царской власти» (Dio Chrysost. Or. 4). По мнению мн. исследователей, при описании в этих речах характера и поступков Диогена Дион мог опираться на кинические сочинения, впосл. утраченные, благодаря чему создал живой и правдоподобный образ древнего киника (см.: Fritz. 1926. S. 71-90; ср.: Giannantoni. 1990. P. 553-559). К известным из др. источников рассказам о жизни Диогена Дион неизменно добавляет собственные краткие замечания, раскрывающие мотивацию кинического поведения и соотносящие внешние «странности» Диогена с принципами кинизма. Дион подробно описывает неприхотливость и самодостаточность (автаркию) Диогена, его аскетическую стойкость, не обходит молчанием и характерные для кинического «бесстыдства» скандальные и вызывающие поступки (см.: Dio Chrysost. Or. 6. 1-16; 8. 36; 9. 32). Главным подвигом Диогена Дион называет постоянную борьбу с соблазнами, удовольствиями и наслаждениями, поскольку «невозможно пребывать в общении с наслаждением или даже хотя бы мимолетно встречаться с ним и не попасть полностью в его власть» (Ibid. 8. 24). Диоген у Диона оказывается прежде всего проповедником простой и естественной жизни; постоянные объекты насмешек философа - это богачи, изнеженные любители роскоши, обещающие мудрость за деньги софисты, самонадеянные глупцы (Ibid. 8. 9, 14; 9. 8; 10. 31). В качестве идеального образца кинической жизни Дион устами Диогена указывает на жизнь первобытных людей и животных (Ibid. 6. 31-33); по словам Диогена, «живое существо не зарождается в среде, где оно не могло бы существовать», поэтому все направленные на облегчение жизни изобретения, отделяющие людей от природы, являются не благом, а злом (Ibid. 6. 26-28). Не меньшим злом являются и культурные излишества: бессмысленные спортивные состязания (Ibid. 9. 1-22), суеверные и бесполезные религ. обряды и церемонии (Ibid. 6. 24; 10. 2, 17, 22-28), бесконечные политические заботы и интриги (Ibid. 6. 25, 31) и т. п. Осуждаются, т. о., любые формы личной и общественной жизни, не берущие начала в природе. Особенно резкой критике Дион подвергал жизнь тирана, являющегося антиподом истинного философа (Ibid. 6. 35-59). Сводя в диалоге Диогена и царя Александра, Дион красноречиво демонстрировал, насколько жизнь самодостаточного мудреца счастливее и свободнее жизни тщеславного и властолюбивого царя (Ibid. 4. 1-10, 49-51). Однако в отличие от подлинного Диогена, отвергавшего всякую гос. власть как извращение природного порядка, Диоген у Диона всегда готов стать «придворным философом»,- он дает царю Александру наставления, как ему стать «хранителем и спасителем» подданных, достичь справедливости и человеколюбия (Ibid. 4. 24), а вовсе не советует ему бросить все и стать нищим киником (подробнее см.: Нахов. 1991. С. 185-221). Активно используя кинизм для осмысления событий собственной жизни и во многом отождествляя себя с Диогеном, Дион не переступил грань, отделяющую оратора, рассуждающего о достоинствах кинизма, от практикующего философа-киника. Его отличие от Диогена ясно видно из того, что при первой же возможности Дион вернулся к рим. придворной жизни; в многочисленных речах, созданных после возвращения в Рим, кинические мотивы почти не представлены и центральным становится стоический идеал общественной добродетели (Там же. С. 219-220; ср: Dudley. 1937. P. 153-158; Döring. 2006. S. 68-81).
В «Беседах» Эпиктета Диоген еще более отдаляется от исторического прототипа и окончательно становится идеальным стоическим мудрецом. Используя кинические идеи, Эпиктет стремился очистить стоицизм от теоретических умствований современных ему стоиков, восстановив присущий основателям школы Зенону Китийскому и Хрисиппу этический ригоризм (Нахов. 1981. С. 221-223). Образ Диогена возникает во мн. «Беседах» Эпиктета; одна из них, «О киническом образе жизни» (Epict. Diss. III 22; совр. комментированное изд.: Billerbeck. 1978), специально посвящена рассмотрению кинической философии как высшего способа философской жизни (анализ содержания см.: Dudley. 1937. P. 190-198; Goulet-Cazé. 1990. S. 2773-2776; Billerbeck. 1996. P. 207-208; Schofield. 2007; Нахов. 1981. С. 224-228). Согласно Эпиктету, кинизирующие философы - это посланники бога (Epict. Diss. III 22. 1-8, 46), или «вестники от Зевса» (ἄγγελος ἀπὸ τοῦ Διός - Ibid. 23), получившие особое задание - надзирать за жизнью людей и непрерывно выводить на свет их заблуждения в отношении истинного блага и истинного зла. С помощью нехарактерного для раннего кинизма, однако весьма популярного в сократической и стоической традициях представления о том, что вся деятельность философа должна быть подчинена его миссии божественного служителя (см.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2774), Эпиктет объясняет характерные черты кинического поведения. Поскольку истинный киник не допускает, чтобы земные заботы отвлекали его от высокого служения, он отказывается от имущества, от брака, от участия в гос. делах и т. п. (Epict. Diss. III 22. 67-85). Всю свою жизнь он превращает в служение добродетели, к-рую представляет людям как в своих поучениях, так и в своем образе жизни. Не отвергая открыто киническое «бесстыдство» (ἀναίδεια), Эпиктет старательно ретуширует его; более того, он замечает, что киник должен иметь внутреннее чувство «стыда» (αἰδώς) и обличать людей не своим скандальным поведением, но словами мудреца, знающего об истинном благе (Ibid. 15; ср.: Billerbeck. 1978. P. 67-68; Schofield. 2007. P. 76-77). Эпиктет называет киника «лазутчиком» (κατάσκοπος), поскольку он испытывает различные способы жизни, существующие у людей, и сообщает им в своих обличительных речах о том, что они весьма далеки от пути добродетели, ведущего к истинному счастью (Epict. Diss. III 22. 24-25; подробнее о смыслах метафоры см.: Schofield. 2007. P. 77-80). Похож киник и на врача, обходящего всех и каждому дающего рекомендацию в зависимости от состояния здоровья (Epict. Diss. III 22. 73). Эпиктет отмечает, что обличительная деятельность кинического философа по самой своей природе всегда вызывает недовольство у людей, поэтому киник должен не ждать внешней славы или награды, но уметь радоваться даже страданиям: киник «должен избиваться, как осел, и, избиваемый, любить самих избиваюших как отец всех, как брат» (Ibid. 54; ср.: Ibid. 100-101). Идеализированный образ «божественного служителя» Диогена Эпиктет противопоставляет многочисленным современным ему К., которые уподобляются псам в том, что «сторожат у столов», попирают приличия и назойливо бранят всех встречных, однако далеки от совершенства и нравственной высоты Диогена (Ibid. 80). Т. о., по внутреннему убеждению Эпиктета, чтобы получить право быть киником, философ вначале должен стать истинным стоиком: подчинить себя всецело божественной воле, принять свою судьбу как благо, «познать самого себя», победить свои страсти: «Царственная часть (τὸ ἡγεμονικόν) его [души] должна быть чище, чем солнце» (Ibid. 93). Формально содержа многочисленные похвалы кинизму, по своему внутреннему настроению «Беседы» Эпиктета представляют кинизм как мало кому доступное высокое служение внутри стоицизма; К. оказываются «сверхлюдьми», задача к-рых заключается в том, чтобы призывать людей к общедоступному стоическому образу жизни (Нахов. 1981. С. 228, 232; Billerbeck. 1996. P. 208; Schofield. 2007. P. 76).
Попытки идеализации кинизма во II в. предпринимались не только стоиками. Так, убежденный платоник и известный оратор Максим Тирский посвятил обсуждению философского содержания кинизма речь «Предпочитать ли кинический образ жизни?» (АнтКин. С. 348-354). Речь Максима, выстроенная по всем правилам риторического искусства, начинается с мифа о творении людей Прометеем по повелению Зевса для заселения земли; естественная жизнь первых людей, согласно Максиму, была «не тяжкой», поскольку они получали все необходимое от земли и не требовали лишнего. На смену этому «золотому веку» пришел «железный век», время человеческой изобретательности, направленной на удовлетворение необузданных желаний (Там же. С. 348-350). Сравнивая эти 2 образа жизни и ставя вопрос о том, какой из них является по-настоящему счастливым, Максим вводит образ Диогена, к-рого «Зевс и Аполлон» научили, как освободиться от всех забот. Описание Диогена у Максима выстраивается с помощью разнообразных отрицаний, подчеркивающих абсолютную свободу как наиболее важное свойство философа: он живет «не боясь тиранов, не подчиняясь насилию закона, не обременяя себя общественными делами, не тревожась о воспитании детей, не сковывая себя браком» (Там же. С. 352); не нуждается «ни в лекарствах, ни в железе, ни в огне... ни в предсказаниях прорицателей, ни в очистительных обрядах жрецов, ни в пении магов-заклинателей» (Там же. С. 354); он «свободнее даже самого Сократа», поскольку тот осознавал себя рабом закона и умер в этом рабстве, тогда как Диоген, отвергнув закон, вернулся к природной свободе и тем самым обрел истинное счастье (Там же). Предлагаемый Максимом кинический путь мифологизированного Диогена - это путь возвращения человека к той жизни, для к-рой он был создан богами, путь духовного освобождения от любых привязанностей, высшей отрешенности. В отличие от стоического Диогена платонический Диоген призван не к служению людям, но к личному богоподобию, достигаемому через познание своей подлинной природы и погружение в естественную «первобытную» жизнь (см.: Billerbeck. 1996. P. 213-214; Нахов. 1981. С. 178-185).
Образ Диогена как скептического киника-обличителя, без промедления возвышающего свой голос против несправедливости и невежества, нередко встречается в сочинениях Лукиана (см.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2763-2768). Осуждая и подвергая осмеянию поверхностный и тщеславный кинизм бродячих философов, Лукиан вместе с тем видел в кинизме союзника в борьбе с общественными недостатками и человеческими предрассудками. Его понимание того, чем кинизм может быть полезен свободомыслящему философу, наиболее ярко представлено в соч. «Разговоры в царстве мертвых», где Диоген является героем 6 небольших диалогов (см.: SSReliq. Vol. 2. P. 501-509). В одном из диалогов Диоген посылает в земной мир Полидевка, поручая ему передать «лгунам-философам», чтобы они перестали «болтать вздор», спорить об общих понятиях и «изощрять ум неразумными вопросами»; богачам, красавцам и силачам - чтобы они задумались о смерти и потратили остаток своей жизни с пользой; беднякам - что в загробном мире все равны, поэтому у них нет повода для сетований (Lucian. Mort. dial. 1). Еще в 4 диалогах Диоген высмеивает являющихся в загробный мир царей и богачей за их гордыню, тщеславие, жадность и проч. пороки, ставя им в пример славу добродетельного человека, к-рую он оставил после себя (Ibid. 13, 16, 24, 26). Наиболее интересен диалог Диогена с Кратетом, в к-ром, обсуждая 2 братьев, умерших в ожидании наследства, Кратет говорит, что он унаследовал от Диогена, а Диоген - от Антисфена сокровище, которое «больше и важнее всей персидской державы», а именно «мудрость, спокойствие, искренность, откровенность и свободу» (Ibid. 11).
Кинизм в III-V вв.
Характерное для I-II вв. активное обсуждение кинических идей представителями различных философских школ в III-IV вв. прекращается. Причинами этого были и широкое распространение христианства, ставшего к V в. новой гос. религией и идеологией Римской империи; и начало ожесточенных внутрихрист. богословских споров, в ходе к-рых был создан аппарат новой христ. визант. философии; и развитие неоплатонизма, претендовавшего на создание единой синкретической философии на основе наследия всех традиц. греч. философских школ; и общая тенденция мыслителей этого времени к тонкому рациональному мистицизму, с т. зр. к-рого кинизм выглядел грубым и безнадежно устаревшим этическим учением. Хотя кинизм продолжал существовать как практико-аскетическое движение в народной среде, он более не вызывал значительного интереса у философов и богословов, определявших интеллектуальную картину эпохи. Единственное исключение относится ко времени имп. Юлиана Отступника, который, осуществляя проект реставрации языческой религии, увидел в К. ее убежденных врагов, равных по опасности христианам, и вступил с ними в философскую полемику.
Понимание того, чем «подлинный» кинизм Антисфена, Диогена и др. древних К. отличается от отвергаемого им «ложного» атеистического кинизма его современников, имп. Юлиан изложил в 2 речах: «Против невежественных киников» (Julian. Apost. Or. 6) и «К кинику Гераклию» (Idem. Or. 7). В 1-й речи содержится общее обсуждение основ кинизма и его философского значения; 2-я речь посвящена частному вопросу кинического отношения к богопочитанию и мифотворчеству. В обоих случаях повод к написанию речей был подан имп. Юлиану самими К. 1-я речь направлена против «египетского киника», подвергавшего критике нек-рые поступки Диогена и заявлявшего о себе как об «истинном» кинике. Адресат 2-й речи, киник Гераклий, изложил в присутствии императора сочиненный им кинический миф, содержавший непочтительные высказывания о богах; считая такое мифотворчество недопустимым, имп. Юлиан воспользовался этим поводом, чтобы осудить тех К., которые выступали с критикой языческой религии.
Все рассуждения имп. Юлиана о кинизме определяются его общими убеждениями относительно природы и назначения философии. По словам имп. Юлиана, «истина одна, потому и философия одна» (Idem. Or. 6. 185); все различия между философскими школами - это лишь различные пути к одной цели. Указание на эту цель имп. Юлиан видит в известных словах оракула: «Познай самого себя» (см., напр.: Plat. Prot. 343b). Для него как для неоплатоника эти слова являются призывом не столько к этическому, сколько к теологическому самопознанию: человек должен отыскать в себе божественное начало и через него возвыситься к божественной жизни, «уподобиться богу» (Julian. Apost. Or. 6. 182-183). Всякая философия, будучи путем возвращения к божеству, имеет божественное происхождение, поэтому и кинизм, согласно имп. Юлиану, не является человеческим изобретением, но был учрежден богом Аполлоном, давшим Диогену через оракула указание «изменять обычаи» (Ibid. 188). Основатели кинизма, следуя этому призыву, создали наиболее простую и естественную философию, сущность к-рой состоит в «преодолении пустых мнений и следовании истине во всем» (Ibidem). Идеальный философ, следующий истинному киническому учению, в описании имп. Юлиана гораздо больше похож на платоника, чем на киника: «Кто желает быть киником, презирая все человеческие обычаи и мнения, в первую очередь обращает свой ум к себе и к богу... Он полагает постыдное и красивое не в похвалах и порицаниях людских, но в природе. Он избегает излишеств в пище, отворачивается от любовных утех... Человек должен разом выйти из себя и познать, что он есть бог, и не только сохранить свой ум неутомимым, непрестанно сосредоточенным на божественном, незапятнанным и мыслящим чисто, но он должен также вполне презирать свое тело...» (Idem. Or. 7. 226).
В соответствии с таким неоплатоническим пониманием кинизма имп. Юлиан интерпретировал поведение Диогена, представляя его «служителем логоса», равным в этом служении Платону; они различаются лишь тем, что Платон учил словами, а Диоген открывал ту же истину своими поступками (Idem. Or. 6. 189); путь Платона является более высоким, однако путь Диогена - общедоступный и наиболее естественный (ср.: Döring. 2006. S. 93-95). Не подвергая сомнению и не осуждая скандальные поступки Диогена, имп. Юлиан предлагал для них нравственно-аллегорическое толкование. Совершая нечто непотребное, Диоген «делал это ради того, чтобы растоптать человеческую гордость и показать людям, что их собственные поступки куда хуже и тягостнее того, чем занимался он, ибо то, что он делал, было согласно природе... их же поступки вовсе не согласовывались с этой самой природой, но все они происходили от испорченности» (Julian. Apost. Or. 6. 202). Как утверждает имп. Юлиан, Диоген видел свою цель в служении призвавшему его богу; все его аскетические упражнения были направлены на то, чтобы достичь бесстрастия, т. е. умертвить тело и «стать богом» (Ibid. 191-192, 195). Диоген у имп. Юлиана становится благочестивым языческим философом: направляющий его поступки ум-логос постоянно связан с богом; он «полон священного трепета перед богами» (Ibid. 199). Т. о., формально выступая с апологией Диогена, имп. Юлиан в действительности переосмыслял его образ в духе собственного мистического неоплатонизма. Постоянно напоминая о покорности Диогена божественной воле, имп. Юлиан тем самым раскрывал подлинную цель предпринятого им переосмысления кинической философии: эта философия имеет право на существование лишь в том случае, если готова стать служанкой языческой религиозности, объяснив собственную практику через неоплатоническую теорию.
В отличие от мифологизированного и платонизированного им древнего кинизма реально существовавший в его время кинизм не вызывал у имп. Юлиана никакой симпатии. Возводя традицию кинического высмеивания языческих богов и суеверий к Эномаю, он утверждал, что такой кинизм - «род безумия, основывающегося... на свойствах звериной души», поскольку он «хочет всецело искоренить благочестие в отношении к богам» (Idem. Or. 7. 209). Желая оскорбить безбожных К., скитающихся по городам империи в поисках подаяния, имп. Юлиан сравнивал их с христ. аскетами и называл «апотактитами» (ἀποτακτῖται), т. е. «отшельниками» (Ibid. 224). В христианской лит-ре этого времени так именовались гетеродоксальные сторонники чрезмерного аскетизма, идейные наследники энкратитов (см.: Васил. 47; ср.: PG. 86. Col. 16-17), однако не исключено, что у имп. Юлиана это слово обозначает вообще любых христ. странствующих монахов. Нек-рые исследователи видят в отождествлении имп. Юлианом К. и христ. аскетов указание на существование отдельных групп христ. К., к-рые подвергались преследованиям как со стороны правосл. Церкви, не соглашавшейся с завышенными аскетическими требованиями таких К., так и со стороны языческого гос-ва, недовольного их отказом от традиц. богопочитания; вместе с тем источников, однозначно подтверждавших бы эту гипотезу, обнаружено не было (ср.: Нахов. 1981. С. 251).
После окончательной победы христианства в Римской империи кинизм разделил судьбу др. языческих философских направлений, деятельность к-рых постепенно прекращалась как из-за уменьшения числа их приверженцев, так и вслед. гос. мер по борьбе с нехрист. философией. То, что кинизм входил в число упорно пытавшихся продлить свое существование в новых условиях философских школ, подтверждает свидетельство блж. Августина, к-рый на рубеже IV и V вв. в соч. «Против академиков» писал: «В настоящее время мы почти не видим философов, которые не были бы или киниками, или перипатетиками, или платониками» (Aug. Contr. acad. III 19). Обсуждая киническое бесстыдство в трактате «О Граде Божием», блж. Августин отмечал: «Мы видим, что и сейчас еще есть философы-киники; это те, кто не только одеваются в греческие плащи, но ходят еще и с палками» (Idem. De civ. Dei. XIV 20). Сохраняющуюся популярность кинизма блж. Августин объяснял тем, что многим импонирует проповедуемая этими философами «свобода жизни» (libertas atque licentia vitae - Idem. Contr. acad. III 19). Заявляя, что христиане не могут видеть в бесстыдном поведении К. ничего положительного и должны считать его лишь иллюстрацией плачевного состояния падшей человеческой природы, он отмечал, что и сами современные ему К. «не смеют повторить диогеновского срама», поскольку, если бы кто из них на это осмелился, «он утонул бы, заплеванный» (Idem. De civ. Dei. XIV 20).
Последним из греч. К., чье имя сохранили источники, является философ-аскет V в. Саллюстий (см.: Asmus. 1910; Praechter A. Salustios // Pauly, Wissowa. R. 2. 1920. Bd. 1. Hbd. 2. Sp. 1967-1970). Сведения о нем содержались в соч. «Жизнь Исидора» неоплатоника Дамаския (V-VI вв.), последнего схоларха афинской философской школы. Этот несохранившийся трактат известен благодаря пересказу свт. Фотия I, патриарха К-польского, и отрывкам, цитируемым в словаре Суда. Согласно Дамаскию, Саллюстий происходил из Сирии, получил превосходное риторическое и софистическое образование в Александрии; приехав затем в Афины, он стал учеником неоплатоника Исидора, учившего также Дамаския и др. платоников. Вскоре, однако, по неизвестным причинам он решил обратиться к кинической жизни. После этого Саллюстий начал высмеивать как своих прежних учителей, обещавших мудрость, которой они сами не обладали, так и разного рода «невежд», сделавшись «оскорбителем толпы» (ὀχλολοίδορος). Он «уводил юношей от философии», заявляя, что «люди вообще не способны философствовать». С помощью такого парадоксального утверждения Саллюстий противопоставлял рационалистической и мистической философии неоплатоников доступную всякому человеку киническую мудрость естественной жизни. Несмотря на свое дерзкое поведение, Саллюстий пользовался уважением среди проч. философов, хотя они и считали, что он неразумно «переходит меру» (πέρα τοῦ μετρίου) как в своем аскетизме, так и в кинических насмешках (Suda. Σ. 62-63). В образе жизни Саллюстий, по-видимому, подражал древним К., стремясь путем аскезы приобрести киническое безразличие и бесстрастие: «Он шел не обычным путем философии, но таким, который был связан с порицаниями, насмешками и тяготами ради стяжания добродетели» (Damascii Vitae Isidori reliquiae / Ed. C. Zintzen. Hildesheim, 1967. P. 130. N 89). Образ Саллюстия у Дамаския наделяется и мистическими чертами, несвойственными древним К.: так, сообщается, что он мог по выражению глаз человека предсказывать время его смерти. Дамаский отмечает, что в целом киническое поведение Саллюстия вызывало удивление у его современников; т. о., к кон. V в. кинизм стал уделом одиночек и даже среди языческих философов воспринимался как архаизм (Dudley. 1937. P. 207-208; ср.: Asmus. 1910. S. 510-512; Goulet-Cazé. 1990. S. 2814-2816).
Учение К.
Кинические философы намеренно отказывались от систематического теоретического обоснования принципов кинического поведения, предлагая в сочинениях лишь его конкретные образцы. Поскольку кинизм на протяжении его исторического развития оставался практической философией, адекватное представление об учении К. может быть получено исключительно посредством дескриптивно-экспликативного рассмотрения того образа жизни, к-рый К. принимали в качестве надлежащего. Различные варианты теоретизирующего анализа кинического поведения широко представлены как в сочинениях древних авторов, описывавших особенности кинизма как философской школы и образа жизни К., так и в исследованиях ученых XIX-XXI вв., стремившихся найти внутреннее основание кинизма, вывести его многообразные внешние проявления из некоего принципа или группы принципов. Наиболее близкой к самосознанию К. представляется теоретизация кинизма, ориентирующаяся на центральный для греч. мышления V в. до Р. Х. вопрос об отношении между «природой» (φύσις) и «законом» (νόμος). Если докинические греч. философы, в т. ч. проблематизировавшие это отношение софисты и постоянно возвращавшийся к его рассмотрению Сократ, сопоставляли природу и закон с целью последующего философского снятия противоречия между ними (подробнее см.: Heinimann. 1945), то у К. противоречие намеренно заострялось: так, Диоген говорил, что он «закону противопоставляет природу» (ἀντιτιθέναι νόμῳ φύσιν - Diog. Laert. VI 2. 38). Диоген, как и все последующие К., не уравнивал по ценности то, что происходит от закона, и то, что происходит от природы (μηδὲν οὕτω τοῖς κατὰ νόμον ὡς τοῖς κατὰ φύσιν διδούς), неизменно подчиняя первое последнему (Ibid. 71) и побуждая к проверке всего многообразия законных установлений на предмет их соответствия природе. Задача кинизма, сформулированная в призыве «изменять обычаи», «переиначивать законоположения», «переоценивать ценности» (παραχαράττειν τὸ νόμισμα),- это восстановление правильного отношения между природой и законом путем практического раскрытия в человеке его природы, порабощенной культурно-общественным законом. Т. о., К. «выбрали природу и отвергли закон, трактуя его как совокупность тех ложных ценностей, которые подлежат переоценке» (Солопова. 2008. С. 415; ср.: Giannantoni. 1990. P. 517-519, 524-527; Long. 1996. P. 34; Tillich. 2003. S. 91; Бриссон. 2006. C. 185). Этот выбор и определяемая им переоценка преломляются во всех задающих мотивацию конкретных человеческих поступков областях: рационально-теоретической, экзистенциально-психологической, этической и социально-политической.
В рационально-теоретической области переоценка означала отказ от законополагающего общего знания и предпочтение ему конкретного познания единичных вещей в их природной данности. В области частной жизни и повседневного существования переоценка вела к полному отказу от предлагаемых индивиду общественными установлениями критериев самоопределения. Человек, согласно К., призван судить о себе не по той роли, к-рая навязывается ему его «узаконенным» состоянием, но по той природе, к-рая в нем скрыта. Установка на поиск этой природы и на практическое раскрытие присущих ей качеств определяет всю жизнь К., к-рая начинается с деятельного отказа от собственного неподлинного существования, продолжается в аскетическом самоочищении и завершается самоутверждением в своей подлинной природе. Практические поступки К. эксплицировали опытно найденное ими понимание природы человека и одновременно заново конституировали саму эту природу, очищая ее от всего того, что К. признавали чужеродным для нее. В этической области переоценке подлежало представление о цели человеческой деятельности и об определяющих «законах» надлежащего поведения. Решительно отвергнув наличие к.-л. внеположной человеку нормативной цели его действий, К. провозгласили тождество объективной добродетели и субъективного счастья, заявив, что человек в его подлинной природе есть сам для себя норма и цель. Представление о самодостаточности (автаркии) человека в его индивидуальном природном существовании, принятое в качестве экзистенциально-этического идеала, использовалось К. для проведения дальнейшей переоценки всей системы внешних отношений человека: социальных (семья, друзья, общество), политических (полис и гос-во) и религиозных (боги).
Киническое мышление: отказ от ненужного знания
Применительно к рациональному мышлению принцип возвращения к природе означал для К. намеренную ориентацию на освобождение мышления из плена философских и научных теорий. Характерные черты такой ориентации прослеживаются уже у Антисфена, учившего доверять чувствам, познавать вещи по их эмпирическим качествам, все предлагаемые для усвоения знания проверять на собственном опыте. Хотя формально мышление Антисфена сохраняет типичную форму философского рассуждения, содержательно оно возвращается к природной нерефлексирующей установке сознания, бытовому «здравому смыслу», принимающему все таким, «какое оно есть». Провозглашая «примат чувственности, материальной текучести и вообще жизненного процесса над разумом и чисто духовной деятельностью», К. отвергали абстрактные «идеи разума», отказывались от сократического учения о том, что «общие родовые понятия и целесообразно действующий разум... должны обязательно определять собою все единичное, то есть весь... поток и процесс жизни» (Лосев. 2000. С. 102, 104). Все попытки объяснить «простую» единичность через «сложное» всеобщее, обнаружить законы в любой области жизни и деятельности, являются для К. заведомо ложными и «сбивающими с пути» (ср.: Diog. Laert. VI 103), поскольку проецируют на действительность схемы, произвольно создаваемые людьми для собственных целей.
Согласно К., человек, стремящийся к истинной мудрости, должен отказаться как от общих философских наук, «логики и физики» (Ibidem), так и от частных теоретических и практических наук, являвшихся необходимым элементом древнегреч. полисного образования. «Музыкой, геометрией, астрономией и прочими подобными науками Диоген пренебрегал, почитая их бесполезными и ненужными» (Ibid. 73), поскольку «грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных; музыканты ладят струны на лире и не могут сладить с собственным нравом; астрономы следят за солнцем и луной, а не видят того, что у них под ногами; риторы учат правильно говорить, но не учат правильно поступать» (Ibid. 27-28). Оценивая всю науку своего времени как «умозрительную, оторванную от жизни, не дающую ощутимых результатов в воспитании человека» (Нахов. 1982. С. 92), К. противопоставляли ей навык надлежащей практической жизни и провозглашали идеал «необразованности» (ἀπαιδευσία), намеренного отказа от приобретения излишних знаний. Темой мн. рассказов о К. является высмеивание ими людей, полагающих, что они обладают неким полезным им знанием (см., напр.: Diog. Laert. VI 38-40).
Однако «необразованность» К. не означала полного отказа от воспитания и образования. Признавая, что «добродетели можно научить» (Ibid. 11), К. считали истинной наукой передачу от учителя к ученику навыков кинической жизни. Первичной формой такой передачи является личный пример; однако К. признавали важным и словесное наставление, как устное, так и письменное. Их негативная оценка знания и образования касалась его содержания, а не формы: используя одни и те же приемы, кинический мудрец наставляет в истине, тогда как софист предлагает ложное знание (ср.: Dio Chrysost. Or. 4. 29-31). Из сообщений доксографов известно о лит. деятельности ранних К., все они оставили после себя сочинения; вместе с тем явно прослеживается тенденция постепенного перехода от написания теоретических философских трактатов (Антисфен, Диоген) к созданию художественных и публицистических произведений различных жанров (трагедии Диогена, стихи Кратета, диатрибы Телета и т. п.). Лит-ра, возникающая как результат творческого процесса индивида и предлагающая конкретные единичные образы, в кинизме признаётся намного более предпочтительной, чем наука, ищущая выражения для всеобщего (Goulet-Cazé. 1986. P. 25-26).
Провозглашенный Антисфеном и воспринятый К. принцип значимости индивидуального и иллюзорности всеобщего на протяжении всей истории кинизма оставался его скрытым и необсуждаемым логико-онтологическим основоположением, определявшим способ отношения К. к миру как к хаотичному взаимодействию индвидуальностей. Центром стабильности в нем является единичный человек, к-рый, обращаясь вовне себя, опытно размечает собственную область внешнего бытия, а обращаясь внутрь себя, открывает себя в своей природности. Т. о., софистическое учение Протагора о человеке как о «мере всех вещей» (Diog Laert. IX 51) становится у К. описанием уже не только логической, но и предельной онтологической реальности.
Киническая жизнь: практика и аскетика
Кинический идеал природной жизни не является искусственной схематической конструкцией: он не был найден на пути анализа абстрактной человеческой природы, но был взят из непосредственного опыта человеческого существования. Исходным пунктом кинического учения о надлежащей жизни является непосредственное переживание экстремальных жизненных ситуаций (изгнание, рабство, нищета, поражение в общественных правах и т. п.), оказываясь в к-рых, человек неизбежно сталкивается с вопросом о том, как в этих условиях он может сохранить свою человеческую природу, внутреннюю гармонию, мир с самим собой, т. е., на языке древнегреч. философии, остаться счастливым. Диогена подвигает к кинической жизни его участь нищего изгнанника: он «понял, как надо жить в его положении, когда поглядел на пробегавшую мышь, которая не нуждалась в подстилке, не пугалась темноты и не искала мнимых наслаждений» (Diog. Laert. VI 2. 22). Опыт открывает Диогену, что бывшие прежде естественными для него культурные и цивилизационные условия существования, т. е. законы и обычаи повседневной жизни, в действительности никак не затрагивают его природу, являются для нее чем-то внешним и безразличным. Тем самым он на практике убеждается в истинности принципа самоограничения, емко выраженного в древнем изречении: «Ничего не должно быть сверх меры» (Μηδὲν ἄγαν; см., напр.: Plat. Prot. 343b; Diog. Laert. I 2. 63). Если во мн. школах греч. философии (напр., у софистов и перипатетиков) «мера» понималась как середина между 2 крайностями, то у К. «мера» оказывается природным минимумом (Long. 1996. P. 34). Переоценивая собственную жизнь, кинический философ оказывается перед вопросом о том, что в наличном человеческом существовании является необходимым и природным, а что - чрезмерным, подавляющим природу. Поиск ответа на этот вопрос приводит к превращению личного опыта в метод, т. е. в практический путь к собственной природе, к-рый может быть предложен др. людям как образец.
Для практического ведения кинической жизни необходимо иметь знание о том, что представляет собой природа человека, что является природной целью человеческой жизни, какими средствами эта цель может быть достигнута и какие препятствия могут возникнуть на пути ее достижения. Ориентация кинизма на доверие непосредственному восприятию потока ощущений определяет киническое понимание человеческой природы. Не предлагая теоретических рассуждений о том, в чем состоит природа человека, кинизм отождествляет природу с непосредственно данным течением жизни в ее наиболее простых проявлениях. Природа - это жизнь, редуцированная до той границы, при переходе к-рой она прекращается. Те базовые потребности и функции, без к-рых жизнь человека вообще невозможна, и задают его природу. Внутренней целью этой природы в ее существовании является счастье. В отличие от культурного счастья (богатства, наслаждений, славы и т. п.), к-рое доступно не всем, требует значительных усилий для достижения и легко может быть утрачено, счастье чистой природности доступно всякому человеку, готовому редуцировать все свои жизненные проявления до этой природности, отказаться от сверхприродных запросов (Ibid. P. 29-30). Согласно Диогену, подлинное «счастье состоит единственно в том, чтобы постоянно пребывать в радостном состоянии духа и никогда не горевать» (SSReliq. V B 301; АнтКин. С. 141. № 70). Избавляясь от всего лишнего, человек одновременно приближается к самому себе в своем природном бытии, а тем самым - к тому счастью, которое в силу его природно-субъектного характера не может быть отнято у человека извне и становится его неизменным жизненным состоянием.
По убеждению К., счастливая жизнь - это «жизнь, согласная с добродетелью» (Diog. Laert. VI 104). Понимание счастья как постоянного спутника добродетели было предложено Антисфеном (Ibid. 11); в последующей кинической традиции целью жизни киника объявлялись как счастье, так и ведущая к нему добродетель. По словам Галена, современные ему К. полагали, что кинизм есть «путь к счастью посредством добродетели» (Claudii Galeni Opera omnia. Lpz., 1823. Vol. 5. P. 71). Поскольку свойственное др. философским школам исследование природы добродетели в кинизме замещается практическим постижением добродетели в природной жизни, К. и писавшие о кинизме авторы определяли кинизм как «кратчайший путь к добродетели» (σύντομος ἐπ᾿ ἀρετὴν ὁδός - Diog. Laert. VII 121; ср.: АнтКин. С. 232-233. № 30). Добродетель понимается здесь К. в т. ч. и как «доблесть», т. е. твердость в следовании природному благому пути (АнтКин. С. 223. № 12). Краткость пути указывает на его внутреннюю простоту и очевидность, а не на внешнюю легкость, т. к. киник должен постоянно «противостоять как наслаждениям, так и тяготам жизни, ибо они в равной степени враждебны и больше всего мешают» стяжанию добродетели и достижению счастья (Там же; ср.: Goulet-Cazé. 1986. P. 22-38). Побеждая влечение к наслаждениям и преодолевая трудности, кинический философ сам создает свое счастье; он приобретает 3 высшие кинические добродетели: свободу, бесстрастие и самодостаточность.
Противостоять наслаждениям невозможно без осознания различия между потребностями человека в их изначальном природном состоянии и теми же потребностями в их искаженном культурно-общественном виде. Так, принятие пищи является естественной потребностью, обеспечивающей жизнь тела; тогда как объедение или любовь к роскошной пище - это излишество, подменяющее природу обычаем, устоявшейся привычкой, тягой к удовольствию и т. п. Т. о., наслаждением в широком смысле является все, что помимо функции поддержания природной жизни выполняет дополнительную функцию обеспечения приятности и комфортности человеческого существования. Согласно Антисфену, точным указателем на то, что потребности человека становятся из естественных искажающими природу является намеренное стремление к наслаждению, заставляющее человека постоянно искать новых и более изысканных удовольствий. Пагубность влечения к наслаждению Антисфен выражал в максиме: «Лучше быть безумным, чем наслаждаться» (Diog. Laert. VI 3; SSReliq. V A 122). Ложное наслаждение делает все поступки человека мотивированными его неумеренными желаниями и тем самым порабощает его, поэтому без отказа от наслаждений нельзя достигнуть свободы и самодостаточности (см.: Dio Chrysost. Or. 8. 21-23; Goulet-Cazé. 1986. P. 42-45). Само по себе достижение свободы от ложных наслаждений К. объявляли истинным наслаждением, тождественным счастью. Согласно парадоксально сформулированному высказыванию Диогена, «презрение к наслаждению благодаря привычке становится высшим наслаждением», поэтому К. «с наслаждением презирают наслаждение» (Diog. Laert. VI 71; ср.: Giannantoni. 1990. P. 521). В кинической лит-ре свобода неизменно толкуется как избавление от внутренне порабощающих человека необузданных желаний; так, в передаваемом Климентом Александрийским и Феодоритом Кирским двустишии Кратет говорит о К.: «Не порабощенные и не мучимые наслаждением, присущим рабам, они возлюбили бессмертную царственную свободу» (Clem. Alex. Strom. II 20. 121; SSReliq. V H 71; ср.: АнтКин. С. 172. № 10); такая свобода для К. тождественна бесстрастию (см.: Goulet-Cazé. 1986. P. 40-42; Нахов. 1981. С. 25-27).
Образец кинического отношения к трудностям был предложен Антисфеном, говорившим, что «трудности - это благо» (ὁ πόνος ἀγαθόν), поскольку именно они создают в человеке навык добродетели (Diog. Laert. VI 2; SSReliq. V A 85). Трудности, тяготы, труды являются неизбежными спутниками человеческой жизни, однако, согласно Диогену, не все трудности приносят пользу и не все связаны с жизнью в ее природном измерении. Диоген отличал «бесполезные труды», т. е. те трудности, к-рые сам человек навлекает на себя в погоне за удовольствиями, богатством, славой и т. п., от трудностей, к-рые возлагает на человека природа (Diog Laert. VI 71). В последующей кинической традиции «полезные трудности», т. е. те трудности, перенесению к-рых человек должен учиться, были разделены на «трудности судьбы», напр. рабское положение, изгнание, несправедливость, и «трудности природы», напр. неблагоприятный климат, слабость тела, болезни, неизбежность смерти (см.: Goulet-Cazé. 1986. P. 48-71; Eadem. 2008. Sp. 635). Стойкое и спокойное отношение к этим трудностям никому не дается сразу. Человеку необходимо вступить в борьбу с ними, однако эта борьба направлена не на освобождение от трудностей,- поскольку такое поведение, согласно К., было бы уже не борьбой, а бегством,- а на воспитание в себе путем аскезы равнодушия и безразличия к ним: «Того, кто презирает трудности и храбро принимает бой, выходя им навстречу, они не могут одолеть; если же он отшатнется и отступит, они будут казаться ему все более непреодолимыми» (Dio Chrysost. Or. 8. 18). Побеждая трудности, человек приобретает самодостаточность, т. е. учится рассчитывать только на себя и в любой ситуации оставаться в мире с самим собой (Giannantoni. 1990. P. 522).
Поскольку обращение к природной жизни требует от человека как изменения его образа мыслей, так и волевых усилий, постоянной работы по самоограничению и перенесению трудностей, К. выделяли 2 рода «упражнения» (ἄσκησις), т. е. аскезы: для души и для тела. Согласно Диогену, «без упражнения в жизни не возможен никакой успех, а оно превозмогает все [препятствия]» (Diog. Laert. VI 70-71). Содержание и объем необходимых аскетических упражнений тесно связаны с начальными условиями жизни человека, принимающего решение практиковать киническую жизнь. В одних случаях преодоление себя тождественно приспособлению души и тела к имеющимся жизненным условиям: так, нищему или рабу нет необходимости избавляться от пристрастия к роскошной еде или имуществу; им достаточно лишь постоянно преодолевать в себе желание изменить свое наличное состояние и приучать тело к перенесению внешних трудностей. В др. случаях для обращения к кинической жизни требуются более радикальные практические действия: уход из семьи, отказ от имущества, мучительная тренировка тела и т. п. Путь каждого человека к киническому аскетическому идеалу является индивидуальным, однако сам этот идеал сохранялся неизменным на протяжении всей истории кинизма, т. к. он задается принципом минимизации всех потребностей человека до природных, т. е. наиболее простых.
Представление о том, как именно К. понимали приближающее к природе внешнее аскетическое самоограничение, дают их внешний облик и повседневный образ жизни. Согласно сообщениям источников, в качестве одежды К. пользовались сложенным вдвое коротким плащом (τρίβων), причем надевали его на голое тело, а не на хитон, как было принято у греков; часто ходили босыми даже зимой; не стригли волосы и не брили бороду; на плече они носили котомку нищего (πήρα), а в руках - палку странника (βάκτρον; βακτηρία). По-видимому, отличительные черты такого кинического облика восходят к Диогену, хотя их установление в доксографической традиции приписывается также Антисфену и Диодору Аспендскому (см.: Diog. Laert. VI 13, 22-23; SSReliq. V B 152-163). Считая семейную жизнь в домах уклонением от природного порядка, К. обычно «жили в первом попавшемся укрытии» (Diog. Laert. VI 105); из сообщений историков и доксографов известно, что излюбленными местами пребывания К. были храмовые здания, площади, перекрестки улиц. Вместе с тем Диоген Лаэртский сообщает о «доме Кратета» (Ibid. 88); есть свидетельства и о др. К., живших как в собственных домах, так и у дававших им приют людей. Т. о., «бездомность» жизни не была у К. абсолютным требованием, однако высоко ценилась как признак аскетического совершенства. К. полагали, что есть нужно лишь столько, сколько требуется для утоления голода; они допускали прием лишь самой простой пищи: рыбы, зелени, хлеба, бобов, оливок, сушеных фиг и т. п.; в большинстве случаев отказывались от вина и пили только воду (Ibid. 25, 105; ср.: АнтКин. С. 227. № 26; см.: Giannantoni. 1990. P. 499-500). Ведя нищенский образ жизни, К. объявляли сбор подаяния единственным допустимым источником средств к существованию; они отказывались как от накопления денег, так и от зарабатывания их собственным трудом.
В совр. лит-ре о К. нередко говорится как о философах, впервые «возвеличивших труд» (Нахов. 1982. С. 147). В объективном смысле это отчасти верно, поскольку К. в целом одобряли простую трудовую жизнь (см., напр., рассказ Телета о Кратете и сапожнике: АнтКин. С. 195). Однако в субъективном смысле, применительно к самим К., это целиком неверно, т. к. в доксографических источниках отсутствуют сведения, что кто-либо из К. занимался физическим трудом (ср., напр., такие сведения о стоике Клеанфе: Diog. Laert. VII 168-170). Нищенство К. по своей сути противоречит киническим идеалам природной жизни и самодостаточности: призывая к природной жизни, К. отвергали труд, являющийся неотъемлемым свойством человеческой природы; вместо того чтобы зарабатывать необходимые им скромные средства собственным трудом, К. требовали от об-ва содержать их. В лит-ре такая непоследовательность обычно объяснялась особым внутренним самосознанием К. и их представлениями о своей роли в обществе. Считая себя «друзьями богов», т. е. мудрецами, в своем умении «довольствоваться немногим» уподобляющимися ни в чем не нуждающимся богам (см.: Ibid. VI 72, 105), К. полагали, что «богоподобное» отсутствие забот предпочтительнее, чем повседневное принуждение себя к бытовому труду. Мудрец трудится самим своим способом жизни, делами и словами постоянно указывая людям на их недостатки. Заботясь о повседневных нуждах философа, об-во лишь оплачивает его труд и отдает ему должное, поэтому Диоген, когда нуждался в деньгах, «просил не дать ему денег, а отдать его деньги» (Ibid. 46).
Будучи внешними «упражнениями», аскетические практики К. вместе с тем были призваны осуществлять внутреннее переустройство человека, менять его самосознание. Однако это изменение у К. имело своеобразный характер: вступая в борьбу с внешним тщеславием, т. е. отвергая богатство, благородное происхождение, власть, знания как источники «спеси» (τῦφος), они нередко приходили к отраженной во мн. кинических изречениях внутренней гордости, к восприятию самих себя как образцов победы над страстями, стойкости к трудностям, самодостаточности и т. п. В доведенном до предела аскетизме К. мн. их современники видели лишь причудливую и извращенную форму желающего обратить на себя внимание тщеславия (ср.: Goulet-Cazé. 1986. P. 15, 34). На такое восприятие указывают сохраненные доксографами рассказы о том, как Сократ, увидев дыры на плаще Антисфена, сказал: «Через дыры плаща просвечивает твое тщеславие» (Diog. Laert. VI 8); как Платон в ответ на слова топтавшего его дорогой ковер Диогена: «Попираю Платонову спесь» заметил: «Попираешь собственной спесью!» (Ibid. 26). Вместе с тем кинический путь не вел с неизбежностью к горделивому самодовольству; в конечном счете лишь от самого практиковавшего кинизм человека зависело, будет ли он тщеславным актером или подлинным философом-аскетом.
Предлагая радикальный путь переустройства всего уклада личной жизни, кинизм находил отклик среди людей, принадлежавших к самым разным социальным слоям и имущественным группам. В условиях обладавшего сложной социально-иерархической структурой древнегреч. и лат. общества К. предлагали индивиду уникальный способ личного освобождения, никак не зависящий от его предшествующей социальной роли. Хотя исторически кинизм был более всего востребован среди бедняков, изгнанников, рабов, т. е. лиц так или иначе пораженных в своих общественных правах, пример Кратета и др. К., не принадлежавших к социальным низам общества и сознательно перестраивавших свою жизнь в соответствии с практическими принципами кинизма, демонстрирует некорректность предлагавшегося в отечественной науке социально-экономического объяснения кинизма как «идеологии бесправных низов» и «философии рабов», а аскетизма К.- как «вынужденного аскетизма» (Нахов. 1981. С. 18). Хотя для мн. К. подвигавшие их к аскетизму жизненные ситуации действительно были вынужденными, их поведение в этих ситуациях определялось не вынужденной покорностью всему происходящему с ними, как это было у стоиков, а свободной волевой ориентацией на предпочтение трудностей природной жизни. В «Письмах киников» Диогену приписываются слова о том, что он добровольно избрал жизнь, полную трудов и лишений (АнтКин. С. 223. № 14), а Диоген Лаэртский сообщает, что Диоген «выше всего ставил свободу» (Diog. Laert. VI 71). Важность свободолюбия как определяющего фактора кинического образа жизни видна из сопоставления кинизма со стоицизмом, представители к-рого, желая сгладить кинический радикализм, подчиняли свободу индивида необходимости всеобщего мирового закона. Стоики стремились «победить» (vincere) человеческую природу с помощью разума, заставив человека воспринимать любую участь как счастье, поэтому от человека здесь требовалась не столько перемена жизни, сколько перемена мышления. Напротив, К. в своем образе жизни желали «превзойти» (excedere) эмпирическую природную участь как данность (ср.: Seneca. De brev. vit. 14), побуждая человека освободиться от навязанного ему «закона природы» и открыть для себя подлинную природу в индивидуальной свободе естественной жизни (см.: Long. 1996. P. 40; Döring. 2006. S. 53-54).
К. и общество
Отрицательное отношение ко всем устоявшимся и узаконенным формам общественной жизни у К. следовало как из теоретического предпочтения индивидуального всеобщему, так и из практического предпочтения природы закону. Осуждая общество как целостное явление и отвергая все общественные ценности в собственной частной жизни, К. вместе с тем не уходили из общества, не становились отшельниками. Так, о Диогене источники сообщают, что он регулярно посещал Истмийские игры и др. многолюдные общественные собрания; мн. К. намеренно выбирали местом своего пребывания крупные города. Объясняя на примере Диогена мотивацию стремления К. находиться в гуще общественной жизни, Дион Хризостом отмечает, что Диоген имел обыкновение «на больших сборищах изучать, к чему люди стремятся, чего желают, ради чего странствуют и чем гордятся», поскольку он полагал, что, «подобно хорошему врачу, который идет помогать туда, где больных больше всего, и философу необходимо находиться именно там, где больше всего встречается людей неразумных, чтобы обнаруживать их неразумие и порицать его» (Dio Chrysost. Or. 8. 5-7). Постоянно выступая с обличениями и порицаниями, шокируя окружающих грубостью слов и скандальностью поступков, К. парадоксальным образом демонстрировали не презрение к толпе, не высокомерное равнодушие самодостаточных мудрецов, но заинтересованность врачей, воспитателей, учителей (Нахов. 1981. С. 28; Moles. 1983. P. 112). Не ограничиваясь пассивной демонстрацией надлежащей жизни на собственном примере, К. стремились активно воздействовать на то общество, в к-ром они были вынуждены существовать. Их стремление к постоянным контактам с людьми проистекало из принципиального убеждения: природа всех людей одинакова, поэтому любой человек потенциально способен к тому, чтобы освободиться от страстей, привязанностей, ложных представлений и начать свободную природную жизнь.
Отвергнув все формы элитаризма и любые теории неравенства между людьми, кинизм стал наиболее «человеколюбивой» из всех классических школ греч. философии. Принципиальная установка К. на побуждение людей к изменению их жизни, к познанию своей истинной природы отражена в широко известных историях о том, как Диоген искал днем с фонарем человека (Diog. Laert. VI 41); как он кричал «Люди!» и набрасывался на сбежавшихся с палкой, восклицая: «Я звал людей, а не мерзавцев» (Ibid. 32); как, выйдя из бани, он сказал, что народу в ней много, а людей мало (Ibid. 40), и т. п. Такое киническое поведение Диогена была вызвано не презрением и не ненавистью к людям, а желанием пробудить их от сна самодовольства (Giannantoni. 1990. P. 508-512). При этом киник осознавал, что реакциями общества на его поведение могут быть непонимание, брань, побои, изгнание, смерть, однако сознательно шел на этот риск ради благой цели. Обращая внимание на такую внутреннюю мотивацию поступков Диогена, Эпиктет утверждал: «Он был так кроток и человеколюбив (φιλάνθρωπος), что ради общего блага людей с радостью принимал на себя многие труды и телесные мучения» (Epict. Diss. III 24. 64). В историческом развитии кинизма образ кинического философа как самодостаточного аскета, счастливого в своей природной индивидуальности, все более вытеснялся представлением о том, что истинные К. являются общественными «служителями», к-рые наблюдают за нравами общества и непреклонно доносят до всех людей подлинные представления об истине и лжи, благе и зле, надлежащем и недопустимом (ср.: Moles. 1983. P. 111-116).
С представлениями К. о том, что мудрец выполняет по отношению к обществу воспитательную роль, тесно связаны 2 наиболее известных принципа кинического поведения: «свобода речи» (παρρησία) и «бесстыдство» (ἀναίδεια). Ничем не сдерживаемая дерзость кратких и бьющих точно в цель слов появляется у Диогена; она была нехарактерна для Антисфена, не выходившего за пределы обычного греч. остроумия. По словам Диона Хризостома, Антисфен сравнивал Диогена с оводом, к-рый «жалит жестоко» (Dio Chrysost. Or. 8. 3). «Свобода речи» предполагала использование в беседах намеренно язвительных, грубых, непристойных выражений, провокационное и дерзкое высмеивание оппонентов. Однако К. видели свою цель не в оскорблении как таковом, но в том, чтобы обличительным «укусом» заставить собеседников задуматься об их недостатках и изменить образ жизни, т. е. «кусали их для их же спасения» (АнтКин. С. 137. № 33). В этом аспекте поведение Диогена и последующих К. было закономерным, хотя и более радикальным, продолжением обличительной и воспитательной «назойливости» Сократа, к-рый также сравнивал себя с оводом (Plat. Apol. Socr. 30d).
Принцип бесстыдства, впервые введенный Диогеном и неизвестный в греч. философии до него, будучи в своем внутреннем содержании аскетическим упражнением, воспитывавшим в К. равнодушное отношение к общественному порицанию за нарушение устоявшихся норм поведения, имел и внешнее общественное значение. Бесстыдство К. наглядно демонстрировало противоречие между подлинной природой человека и общественными условностями. Согласно Диогену, если нет ничего дурного в удовлетворении телесных потребностей вообще, то нет ничего дурного и в том, чтобы удовлетворять их публично. Доксографы сообщают, что Диоген «все дела совершал при всех»: прилюдно ел и пил, совершал акты мочеиспускания и дефекации, «то и дело занимался рукоблудием» (Diog. Laert. VI 69; SSReliq. V B 147). Последующие К. практиковали также публичное совокупление супругов, получившее у древних авторов насмешливое наименование «собачий брак» (κυνογάμια; см.: Tat. Contr. Graec. 3. 3; Clem. Alex. Strom. IV 19; Theodoret. Curatio. 12. 49; ср.: SSReliq. V H 23). Все эти скандальные поступки призваны были оказать шоковое воздействие на сознание наблюдающих. К. надеялись, что наглядно столкнув природу и обычай в своем поведении, они смогут заставить людей задуматься об условности и относительности привычных для них обычаев. В сочинениях мн. древних авторов, и в особенности в трудах христ. церковных писателей, киническое бесстыдство часто приводилось как пример философского оправдания безнравственности. Однако в действительности К. проводили четкую (хотя и не соответствующую общепринятой морали) грань между естественными потребностями и проистекающими из испорченности человека пороками; так, Диоген высмеивал и порицал проституцию (Diog. Laert. VI 61, 62, 66; АнтКин. С. 158. № 236), гомосексуализм (Diog. Laert. VI 46, 47, 53, 54, 59, 61, 62, 65; АнтКин. С. 136. № 19) и вообще любую распущенность и невоздержанность (Diog. Laert. VI 60, 68; АнтКин. С. 136. № 17, 22; С. 160. № 251).
Осуществлявшаяся К. критика узаконенных форм общественного бытия человека становилась особенно жесткой, когда они обращались к рассмотрению полиса и гос-ва. Для К. все общественные институты есть безусловное зло, поскольку они, будучи учреждены законом и обычаем, в свою очередь производят новые законы и установления, подавляющие все природное и индивидуальное. К. выступали как провозвестники и защитники анархизма, непримиримые критики любой власти - от власти богатого горожанина до вселенской власти царей и императоров (Нахов. 1981. С. 31-32; Он же. 1982. С. 101-103; Giannantoni. 1990. P. 546-547). Отказываясь от значимого для каждого грека представления о важности этнического и родового происхождения человека, определявшего его гражданский статус в полисе, Диоген провозглашал себя «гражданином мира» (κοσμοπολίτης - Diog. Laert. VI 63) и объявлял, что «единственным истинным гражданством является гражданство во вселенной» (πολιτεία ἐν κόσμῳ - Ibid. 72). Кратет утверждал, что его отечество - «селенья всей земли», готовые дать ему приют (Ibid. 98). К. не признавали общественных различий между эллинами и варварами, рабами и свободными, бедняками и богачами; единственное истинное различие - это отличие мудреца, обратившегося к следованию своей природе, от глупцов, пребывающих в плену общественных условностей и в рабстве у собственных страстей.
Организованной жизни людей в полисе и гос-ве К. противопоставляли «естественную» жизнь, подобную жизни животных. Нек-рое представление о том, как К. понимали такую жизнь, дают краткие пересказы содержания трактата Диогена «Государство» у Диогена Лаэртского и у Филодема (ср.: Giannantoni. 1990. P. 537-546). Согласно Диогену, в обществе людей, вернувшихся к природной жизни, не будет нужды в гос. учреждениях, оружии, деньгах и т. п. Институт семьи также должен упраздниться: «Жены должны быть общими... кто какую склонит, тот с тою и сожительствует; поэтому же и сыновья должны быть общими» (Diog. Laert. VI 72). В природном обществе снимаются все законные ограничения, поэтому допустимым становится то, что в традиц. обществе считается преступлением: сексуальные отношения между родственниками (инцест), поедание человеческого мяса (каннибализм; допустимость обосновывалась родством человеческого тела с телами др. животных, к-рые используются в пищу), присвоение чужого и общественного имущества (напр., храмового; это обосновывалось идеей общности всякого имущества) и т. п. (Ibid. 73; SSReliq. V B 125-126, 353-359). Такие идеи не могли не шокировать мн. современников Диогена, выдвигавших в адрес К. обвинения в полной аморальности и намеренном желании превратить общественную жизнь в животную, порядок - в хаос (подробнее см.: Goulet-Cazé. 2003. P. 28-60; Нахов. 1982. С. 129-134). Хотя образ «природного» гос-ва время от времени возникал в сочинениях К. (см., напр.: Diog. Laert. VI 85), они осознавали его утопический характер и не прилагали никаких усилий к тому, чтобы реализовать свои политические идеи на практике, сохраняя их лишь как парадигматический идеал, контрастно противостоящий реальности.
Религиозные взгляды К.
Отвергая все общественные установления, К. с неизбежностью приходили к отрицанию традиц. религии, следование к-рой воспринималось как одна из важнейших обязанностей гражданина греч. полиса. Высказывание Антисфена, аутентичность к-рого подтверждается тем, что его цитирует Филодем в соч. «О благочестии», фрагментарно сохранившемся в корпусе геркуланских папирусов, позволяет заключить, что первоначальная оценка религии напрямую выводилась из центрального для кинизма противопоставления природы и закона. Антисфен утверждал: «Согласно [человеческому] закону (κατὰ νόμον) существует много богов, однако по природе (κατὰ φύσιν) - один» (P. Herc. 1428. Fragm. 7a; SSReliq. V A 179-180; АнтКин. С. 124. № 39A; лат. версию см.: Cicero. De natura deorum. I 13; Min. Fel. Octavius. 19; Lact. Div. inst. I 5. 18; Idem. De ira Dei. 11). Говоря об одном боге по природе, Антисфен вставал на строго монотеистическую позицию. В этом он продолжал традицию элейской философской школы (прежде всего Ксенофана; ср.: DK. 21B23. 14-16); его оппонентами здесь могли быть как софисты, придерживавшиеся теологического агностицизма, так и последователи Демокрита, полагавшего, что источником знания о богах являются их материальные «образы», наполняющие мир. Кроме того, Антисфен мог выступать как продолжатель засвидетельствованной Ксенофонтом сократовской тенденции к пантеистическому отождествлению единого бога и природы (см.: Xen. Mem. I 4; IV 3; подробнее см.: Brancacci. 1985/1986; Rankin. 1986. P. 87-100; ср.: Giannantoni. 1990. P. 251-253). Любые внешние изображения и подобия единого бога Антисфен считал не отражающими его природу и потому ложными и ненужными. Так, согласно свидетельству Феодорита Кирского, «Антисфен... провозглашает о Боге всего сущего: Его нельзя узнать на изображениях, Его нельзя увидеть глазами; Он ни на что не похож, поэтому никто не может узнать Его по изображению» (Theodoret. Curatio. I 75; см. также: Clem. Alex. Strom. V 15. 108; Idem. Protrept. VI 71; Euseb. Praep. evang. XIII 13. 35; ср.: SSReliq. V A 181; АнтКин. С. 100. № 24). Последующие К. восприняли от Антисфена убежденность в том, что все человеческие представления о богах относятся к сфере «закона» и потому должны быть «переоценены» и отброшены как ложные (Goulet-Cazé. Religion. 1996. P. 60). Вместе с тем монотеизм Антисфена остался уникальным случаем для кинизма, поскольку идея единого природного бога не нашла отклика в кинической традиции (ср.: Clem. Alex. Protrept. 6. 71. 2). Вероятнее всего, это объясняется практико-эмпирической установкой кинизма: существование единого бога по природе не дано человеку в опыте, поэтому такой бог является лишь теоретической идеей, от рассмотрения которой К. намеренно уклонялись (ср.: Tillich. 2003. S. 92-93).
Отказавшись от учения о едином боге, К. на общий философский вопрос о существовании и природе богов давали ответ, выдержанный в духе строгого агностицизма. Так, Диоген, согласно свидетельству Тертуллиана, «будучи спрошен, что делается на небесах, ответил: Я никогда не всходил туда; он же, будучи спрошен о том, есть ли боги, ответил: Я не знаю, однако полезно считать, что есть» (Tertull. Ad nat. II 2; SSReliq. V B 337; ср.: Diog. Laert. VI 39; относительно атрибуции см.: Giannantoni. 1990. P. 549). Содержащееся во 2-й части ответа указание на то, что независимо от реального существования богов вера в них полезна для об-ва, демонстрирует, что К. осознавали общественную функцию религии и выступали против нее именно вслед. неприятия этой функции, а не из-за рационально-теоретического атеизма, к-рый был для них нехарактерен (Goulet-Cazé. Religion. 1996. P. 73). К. беспощадно высмеивали все человеческие способы богопочитания как выдуманные самими людьми пустые суеверия, обосновывая это тем, что без эмпирического опыта ничего достоверного о богах знать нельзя, поэтому разумной позицией может быть исключительно агностицизм. Так, Диоген порицал обряды очищения (Diog. Laert. VI 42), мистерии (Ibid. 39), жертвоприношения (Ibid. 28), молитвы (Ibid. 37, 42), храмовых служителей (Ibid. 45), прорицателей (Ibid. 24), суеверных людей (Ibid. 48) и т. п. (ср.: Goulet-Cazé. Religion. 1996. P. 49-50, 64-66; Нахов. 1982. С. 96-97). К. разделяли популярное среди античных противников религии убеждение в том, что обращение к богам часто является следствием человеческой лени, нежелания работать над собой и невежества. Так, по словам Диогена, люди заблуждаются, надеясь очищениями исправить жизненные проступки; беспокоясь о «недобрых снах», вместо того, чтобы заботиться о собственных дневных поступках; молясь богам не об истинном благе, но о том, что только кажется благом (Diog. Laert. VI 42-43). Дополнительный мотив критики религии, в особенности важный для позднего рим. кинизма, был связан с киническим идеалом самодостаточности: в результате аскезы кинический философ научается ни в чем не нуждаться и ничего не бояться, поэтому традиционным богам нечего предложить ему и нечем устрашить (Goulet-Cazé. Religion. 1996. P. 60-61, 73).
Вместе с тем Диоген утверждал, что «боги даровали людям легкую жизнь» (Diog. Laert. VI 44), что мудрец подобен богам и является их другом (Ibid. 72, 105). Эти и подобные им положительные высказывания о богах, в к-рых будто бы признаётся их существование и благое отношение к людям, в действительности едва ли свидетельствуют о к.-л. богопочитании у ранних К. Боги фактически выступают здесь как метафорическое обозначение имманентной природы, а не как мифические существа и объекты религиозного поклонения (Нахов. 1982. С. 96; Goulet-Cazé. Religion. 1996. P. 61-64, 74; иную т. зр. см.: Лосев. 2000. С. 116-117, 123-124). Крайне популярное у стоиков и неоплатоников представление о божествах как о персонифицированных проявлениях трансцендентного по отношению к человеку начала (ума, логоса, судьбы и т. п.), направляющего весь ход мирового движения, было совершенно чуждо К., отвергавшим любую теорию «закономерности» мирового развития. Миром, согласно К., правит не закон, а свобода индивидуальных деятелей, поэтому не существует никакой судьбы, невозможны предсказания, бессмысленны молитвы (Goulet-Cazé. Religion. 1996. P. 67).
Единственной сферой рассуждений К., где могут быть обнаружены слабые следы наличия у нек-рых из них веры в божественное начало, является учение о посмертной участи человека. Хотя К. не предлагали развитого учения о душе и по большей части рассматривали душу и тело человека в единстве его личности, в кинических сочинениях встречаются намеки на веру в то, что со смертью жизнь человека не прекращается. Так, Антисфен утверждал, что «те, кто хотят обрести бессмертие (βουλομένους ἀθανάτους εἶναι), должны жить благочестиво и справедливо» (Diog. Laert. VI 5; ср.: SSReliq. V A 176). Не говоря о философской вере в единого бога и отвергая народную веру во мн. богов, К. вместе с тем верили в особую «заботу» природы о человеке, иногда приходя через эту веру к фактическому обожествлению природы. Свидетельства этого часто встречаются в поздних «Письмах киников»; здесь на вопрос о загробной участи людей от лица Диогена предлагается ответ, в к-ром философский агностицизм соединяется с квазирелиг. верой в то, что природа позаботится о философе, к-рый следовал в своей жизни путем добродетели: «Я считаю достаточным жить в соответствии с добродетелью и природой, что зависит от нас самих. Как то, что было до нашего рождения, зависит от природы, так и то, что будет после смерти, находится в ее власти. Как она породила, так она и умертвит» (АнтКин. С. 227. № 225).
Влияние К. на философию и культуру
На всем протяжении своего исторического существования кинизм был ориентирован на диалог с др. философскими школами. Наиболее значимым является влияние кинизма на зарождение и развитие стоицизма; представители 2 школ всегда помнили о своем родстве и воспринимали друг друга как естественных союзников в деле просветительской и воспитательной философской работы. Отказавшись от ригоризма кинической этики и экстремизма кинической аскетики, стоицизм вместе с тем вобрал в себя основные элементы кинической практической философии и сделал их доступными для широкого круга лиц, стремившихся к философской жизни, но не желавших следовать трудным киническим путем, предполагавшим изменение всего строя индивидуальной жизни. Непримиримыми оппонентами К. были приверженцы эпикурейства, провозглашавшие тождественность блага и удовольствия и критиковавшие К. за их неумеренный аскетизм. Из-за отсутствия в кинизме развитой теоретической философии его влияние на перипатетизм, платонизм и неоплатонизм было слабым, однако некоторые формы неоплатонической аскетики могут быть возведены к учению К. (Goulet-Cazé. 1990. S. 2808-2817; Desmond. 2008. P. 210-211).
Хотя к VI в. кинизм прекратил существование в качестве философской школы, кинические идеи всегда оставались востребованными в европ. философии и культуре. Связанные с Диогеном истории и его изречения часто включались в средневековые сборники этических наставлений (см. подборку отрывков: Largier. 1997. S. 175-261); традиция воспринимать его как учителя аскезы и проповедника добровольной бедности в лат. лит-ре восходила к блж. Иерониму, назвавшему Диогена «победителем человеческой природы» (Hieron. Adv. Iovin. II 14). В эпоху Ренессанса пробуждается интерес к лит. стороне кинизма; мн. авторы этого времени рассматривали К., известных гл. обр. через сочинения Лукиана, как образцовых сатириков древности, едко и беспощадно высмеивавших недостатки индивида и общества, и считали себя продолжателями их дела (Desmond. 2008. P. 221-222; подробнее см.: Kinney. 1996; Roberts. 2006). Для мыслителей Просвещения характерно двойственное отношение к К.: как историческое явление кинизм в это время оставался почти неизученным, поэтому философами-моралистами нередко воспринимался в общем смысле как отрицание любых нравственных ценностей и отождествлялся с имморализмом. Вместе с тем образ Диогена как независимого и самодостаточного философа-киника часто встречается у И. В. фон Гёте (1749-1832), называвшего его даже «святым Диогеном»; др. крупный нем. поэт и писатель, К. М. Виланд (1733-1813), воплотил собственное видение философии К. в повести «Наследие Диогена Синопского» и в романе в письмах «Кратет и Гиппархия»; «новым Диогеном» нередко называли франц. философа Ж. Ж. Руссо (1712-1778), сторонника возврата к простой и естественной природной жизни. Двойственность оценки К. нашла отражение в начавшемся именно в Новое время процессе отделения понятия «кинизм», обозначающего историческую философскую школу, от понятия «цинизм», служащего для обозначения определенного типа мировоззрения, лишь отдаленно связанного с подлинным учением К.; в нем. и рус. языках понятийное отделение впосл. было выражено и орфографически (Döring. 1998. S. 316-321; подробнее см.: Niehues-Pröbsting. 1979. S. 214-243; Нахов. 1987). Особое значение образ Диогена и понятие «кинизм» приобрели в философии Ф. Ницше (1844-1900), который в поздний период творчества воспринимал себя как нового Диогена, называл киническую насмешку «наивысшей достижимой на земле» формой мышления и считал, что его борьба с ценностями христианства и общепринятой моралью является возрождением древнего кинизма в новых условиях, «переоценкой всех ценностей» (см.: Desmond. 2008. P. 229-234; Niehues-Pröbsting. 1979. S. 250-278). В XX в. нем. философ П. Слотердайк (род. в 1947) в соч. «Критика цинического разума» (Kritik der zynischen Vernunft, 1983) критиковал «циническое» мышление совр. человека, для которого характерно совмещение молчаливого принятия данности обессмысливающегося существования с осознанием фальшивости ситуации в бессильной самоиронии, и призывал воскресить кинизм как «греческую философию дерзости», призывающей к реализации себя в практическом индивидуальном поступке. Провокационные элементы поведения К. имеют многочисленные параллели в общественной и культурной жизни XX-XXI вв., проникнутой идеей противостояния личности и общества; отголоски кинизма исследователи находят в асоциальных движениях и молодежных субкультурах (напр., хиппи, панк), в совр. перформативном искусстве, в индивидуальных протестных акциях против социальной и политической несправедливости (Döring. 1998. S. 321).
Кинизм и христианство
В течение примерно 500 лет кинизм и христианство существовали и развивались в одной культурной и социальной среде. Исторические источники содержат достаточное число свидетельств того, что К. и христиане вели диалог как на личном, так и на идейном уровне. При рассмотрении этих свидетельств необходимо учитывать, что к моменту возникновения христианства кинизм был уже сложившейся философской школой, имевшей замкнутый набор этических идеалов и принципов поведения, а также сформировавшееся негативное отношение ко всякой религии вообще. Именно этим объясняется то обстоятельство, что влияние христианства на кинизм было минимальным; оно фактически сводилось к обращению в христианство отдельных К. Влияние кинизма на христианство было более сложным и многоплановым. Необходимость возвещения христ. истины на языке, доступном для тех, к кому была обращена проповедь, ставила христ. Церковь перед задачей религ. и философского рассмотрения различных идейных течений греч. философии. Выработанная в ходе этого рассмотрения общая стратегия отношения к языческой философии, в соответствии с к-рой из этой философии заимствовалось то, что признавалось согласующимся с христ. верой, и подвергалось оценочной критике все прочее, была применена христ. Церковью и к кинизму. В совр. науке отношение христианства к кинизму рассматривается в 3 основных направлениях: 1) гипотеза о влиянии К. на зарождение и развитие раннего христианства; 2) анализ оценочных суждений о кинической философии, представленных в сочинениях отцов Церкви и древних христ. писателей; 3) вопрос о влиянии кинической аскетической практики на появление и развитие нек-рых форм христ. аскетики.
К. и раннее христианство
Гипотеза о наличии особого рода связи между кинизмом и ранним христианством была выдвинута библеистами, занимавшимися проблемой источников синоптических Евангелий. Обсуждение этой гипотезы, теснейшим образом связанной с развитием теории т. н. источника Q, началось во 2-й пол. XX в. и продолжается до наст. времени. По мнению поддерживающих теорию ученых, Q является протоевангелием, т. е. наиболее ранней литературно обработанной записью изречений Иисуса Христа, и, возможно, был составлен Его ближайшими учениками и последователями. Изречения Q (наряду с возникшим независимо от них Евангелием от Марка) были, по убеждению ряда библеистов, впосл. использованы авторами Евангелий от Матфея и от Луки и встроены в их нарративную структуру. Поддерживая установку на демифологизацию НЗ, заявленную Р. Бультманом (1884-1976), сторонники теории полагают, что в отличие от принятых христ. Церковью 4 канонических Евангелий (ср. ст. Канон библейский) Q не имел нарративного характера, т. е. не содержал повествований о рождении, событиях жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, к-рые будто бы впервые появляются лишь в процессе мифологизирующей переработки Q. Учеными, принимающими предположение о том, что Q является не совокупностью разрозненных изречений, а цельным лит. произведением, была предпринята попытка воссоздать его с использованием материала Евангелия от Матфея, Евангелия от Луки и апокрифического Фомы евангелия, завершившаяся созданием условного научного текста Q (см.: The Critical Edition of Q / Ed. J. M. Robinson, P. Hoffmann, J. S. Kloppenborg. Leuven, 2000). В ходе длительного обсуждения вопроса о лит. природе этого текста была выдвинута идея, что он принадлежит к популярным в эллинистической литературе жанрам «изречений мудрецов» (λόγοι σοφῶν) или «жизнеописаний» (βίοι) философов. Пытаясь найти источники, повлиявшие на жанровые особенности и тематическую палитру Q, нек-рые исследователи предложили искать их в кинической литературе, а именно в собраниях изречений и в диатрибах кинических философов. Приняв это положение, отдельные библеисты (Ф. Дж. Даунинг в Великобритании, неск. участников т. н. Семинара Иисуса (Jesus Seminar) в США и др.) пошли еще дальше и заявили, что Иисус Христос и Его ученики либо находились под сильным непосредственным влиянием кинизма, либо вообще были иудейскими К. (см. основные работы: Downing. 1988; Idem. 1992; Idem. 1998; Crossan. 1991; Mack. 1993; Vaage. 1994; Idem. 1995; Robinson. 1997; Seeley. 1997; Kloppenborg. 1999). Такие взгляды получили условное наименование концепции «кинического Иисуса» (Cynic Jesus; см.: Goulet-Cazé. 2008. Sp. 655-659). Эта концепция не является общепринятой в совр. библеистике и неоднократно подвергалась критике как со стороны библеистов, так и со стороны историков философии (см., напр.: Tuckett. 1989; Betz. 1994; Eddy. 1996; Johnson. 1996; Райт. 2004; Döring. 2006. S. 100-105; Goulet-Cazé. 2008). Основные аргументы, приводимые сторонниками и противниками теории влияния кинизма на раннее христианство, делятся на 2 группы: 1) текстологические, т. е. аргументы, касающиеся отнесения Q к кинической лит-ре; 2) исторические (в т. ч. психологические, типологические и социологические), т. е. аргументы, относящиеся к гипотетическому личному кинизму Иисуса Христа и первых христиан (обзор аргументов с позиции сторонников концепции см.: Kloppenborg. 1999; с позиции противников концепции см.: Goulet-Cazé. 2008. Sp. 649-663).
Корректное текстологическое сравнение изречений Q c кинической лит-рой затруднено как тем, что Q является совр. предположительной реконструкцией, а не оригинальным памятником христ. лит-ры, так и тем, что сборники изречений и диатрибы К. в оригинальном виде не сохранились и известны лишь в поздних переработках. Вместе с тем, по мнению оппонентов концепции «кинического Иисуса», даже на имеющемся материале можно показать принципиальную разнородность Q и кинических текстов. Так, изречения Q не соответствуют типовым формальным и лексическим структурам кинического изречения (χρεία); в отличие от кинических жизнеописаний предлагаемый исследователями вариант Q содержит минимум биографических сведений и не имеет своей целью описание идеальной жизни мудреца; в отличие от диатрибы Q не совмещает разноплановые лит. жанры и не посвящен раскрытию одной законченной темы (Goulet-Cazé. 2008. Sp. 651-654). Кроме того, в высказываниях Q и Евангелий полностью отсутствует характерная для большинства кинических изречений дерзкая насмешка и издевка над собеседником; как положительные, так и осуждающие изречения Иисуса Христа всегда проникнуты серьезностью и авторитетом. Широко распространенная среди сторонников концепции «кинического Иисуса» сравнительная текстология, при к-рой отдельные высказывания, заимствуемые из Q и книг НЗ, сравниваются с некоторыми положениями, извлекаемыми из сочинений кинических и кинизирующих авторов (наиболее показательный пример: Downing. 1988; ср.: Vaage. 1995. P. 208-229), также имеет серьезные недостатки, поскольку при ее осуществлении нередко игнорируются идейные различия внутри кинизма, личная позиция кинических авторов, исторический контекст высказываний. Так, напр., тексты Q сравниваются с высказываниями Эпиктета как «киника», без учета того, что он писал о кинизме со стоических позиций, и того, что с хронологической т. зр. смысловые совпадения его сочинений с текстами НЗ могут быть объяснены его знакомством с христ. проповедниками, и в таком случае влияние оказывается обратным (Döring. 2006. S. 104). Часто не учитывается и мировоззренческий контекст, определявший серьезное смысловое различие даже формально близких по содержанию высказываний. Так, напр., слова «многие же будут первые последними, и последние первыми», связанные с призывом оставлять все ради Евангелия (Мф 19. 28-30), и кинические изречения о том, что оставивший все ради природной жизни бедняк в действительности счастливее царя, выражают внешне сходные идеи, однако эти идеи мотивируются различным мировоззрением: убежденностью в самодостаточности человека у К. и верой в конечный справедливый Суд Божий у христиан. Даже весьма близкие образы (наиболее популярное сопоставление - «птицы небесные», «полевые лилии» и связанная с этими образами идея жизни без забот в Мф 6. 25-30; ср., напр., в кинической лит-ре: Dio Chrysost. Or. 10. 16; Epict. Diss. I 14. 3, 9; ср.: Downing. 1988. P. 68-71), встречающиеся у К. и в изречениях Q, не могут служить убедительным доказательством наличия текстовой взаимосвязи, поскольку эти образы и связанные с ними идеи могли быть частью культурного контекста, общественного сознания, никак не обусловленного конкретной философской школой или мировоззренческим направлением (см.: Goulet-Cazé. 2008. Sp. 654-656, 661).
Историческая аргументация сторонников и противников концепции «кинического Иисуса» строится преимущественно вокруг вопроса о возможности знакомства Иисуса Христа и Его учеников с приверженцами кинизма в Палестине. Сторонники концепции полагают, что отдельные К. или кинические группы могли существовать в нек-рых городах Палестины; наиболее часто называется г. Сепфорис в Галилее, важный политический и торговый центр, располагавшийся близ Назарета, где провел детство и юность Иисус Христос, а также г. Тивериада (см., напр.: Kloppenborg. 1999. P. 98-103). В качестве дополнительного аргумента сторонники концепции указывают на то, что с палестинским г. Гадара связаны имена 3 К.: Мениппа (III в. до Р. Х.), Мелеагра (II-I вв. до Р. Х.) и Эномая (см., напр.: Downing. 1992. P. 147-148). Однако Менипп лишь родился в Гадаре, а философскую жизнь киника вел в Фивах (см.: Diog. Laert. VI 99); Мелеагр был кинизирующим поэтом, а не философом-киником в полном смысле слова, и также не жил постоянно в Гадаре (см.: Нахов. 1981. С. 126-128); Эномай вел философскую деятельность во II в.; вслед. этого говорить о наличии некой кинической школы в Гадаре невозможно. Т. о., хотя нельзя полностью исключить вероятность того, что какие-то К. в разное время жили в Палестине, оппоненты концепции справедливо указывают на то, что не существует никаких исторических свидетельств, подтверждающих существование К. в Галилее I в., а тем более - контакты с К. Иисуса Христа и Его учеников (ср.: Betz. 1994. P. 471-472; Tuckett. 1989. P. 356-358). Кроме того, представление о сильной эллинизации Галилеи в I в., на основании к-рого делается предположение о наличии в ней значительного числа сторонников кинизма, было поставлено под сомнение данными совр. археологических раскопок.
Рассматривая предлагаемый психологический портрет Иисуса Христа как киника, противники концепции отмечают, что даже редуцированный личный образ Иисуса Христа, представленный в Q, далек от классического образа кинического философа и не совпадает с ним в ряде существенных черт: Иисус Христос ведет скромную и целомудренную жизнь, не согласующуюся с киническим принципом бесстыдства; Он не похож на кинического аскета (пьет вино, живет в домах, не просит Сам милостыню, не носит плащ на голое тело и т. п.); Он является чудотворцем и целителем; Он верит в единого Бога и проповедует благочестие, а не возврат к природной жизни (Goulet-Cazé. 2008. Sp. 662-663). Весьма популярным среди сторонников концепции является социально-политическая аргументация, в соответствии с к-рой сходство Иисуса Христа и К. проистекает из их общественной роли борцов с существующим общественно-политическим строем, ниспровергателей общепринятых ценностей. Однако, хотя критическое отношение к «миру сему» действительно было свойственно Иисусу Христу и выражалось в Его словах и поступках, оно мотивируется тем, что истинная жизнь - это жизнь вечная, Царство Небесное, Царство Божие, тогда как в кинизме любая трансцендирующая мотивация заведомо исключена. Если проповедь К. ориентирована на призыв к индивидуальной аскезе, то для проповеди Иисуса Христа наиболее важным является призыв вступить в правильное отношение к Богу, принести покаяние и «уверовать в Евангелие» (ср.: Мк 1. 15), т. е. изменить свою жизнь так, как это угодно Богу. Т. о., поскольку за любым типологическим совпадением поступков и слов Иисуса Христа и К. кроется глубокое мотивационное различие, поиск внешних совпадений является фактически бессмысленным занятием (Goulet-Cazé. 2008. Sp. 658-663). В качестве ответа на критику сторонником концепции Дж. С. Клоппенборгом была предпринята попытка представить мировоззрение Иисуса Христа как «кинический иудаизм», т. е. киническое движение, возникшее внутри иудаизма и вследствие этого обладающее религ. своеобразием (Kloppenborg. 1999. P. 111-117). Хотя в этом случае речь идет уже скорее о типологическом сходстве, чем о прямом влиянии кинизма, даже такая «мягкая» версия не может быть убедительно и непротиворечиво обоснована; с научной т. зр. можно говорить лишь о наличии отдельных параллелей между текстами НЗ и текстами К., но не о параллелизме мировоззрений в целом.
Независимо от связанной с Q концепции «кинического Иисуса» библеистами в XX в. предлагалась также гипотеза о «кинизме» ап. Павла. Так, А. Малерб, признавая, что ап. Павел не был киническим философом формально и не разделял кинического индивидуализма, находит следы сильного кинического влияния в ряде рассуждений из Посланий ап. Павла (напр., 1 Фес 2; см.: Malherbe. 1989. P. 49-67). Схожую концепцию развивал Даунинг (см.: Downing. 1998); по его мнению, ап. Павел испытал столь сильное влияние кинизма, что мн. его современники видели в нем кинического проповедника, хотя сам он себя таковым не считал: «Павел - это христианский иудей с некоторыми важными отпечатками кинизма в его рассуждениях и образе жизни» (Ibid. P. 10). Метод обоснования этого тезиса сводится у обоих авторов к сравнительному сопоставлению кинических текстов и текстов НЗ; поскольку ни один из них не настаивает на том, что ап. Павел был убежденным киником, эти сопоставления фактически призваны доказать, что он был знаком с нек-рыми взглядами К. Такое допущение в ряде случаев может быть верным (см., напр.: Кол 3. 8-11; ср.: Downing. 1998. P. 11-22), однако в большинстве случаев предлагаемые параллели имеют слишком общий характер и не отражают существенных особенностей кинизма. Cопоставительный анализ греч. философской диатрибы и рассуждений ап. Павла был осуществлен в работах С. К. Стоуэрса (Stowers. 1984) и Т. Шмеллера (Schmeller. 1987; для сравнения здесь использованы диатрибы Телета, Музония Руфа и Эпиктета). Эти авторы продемонстрировали, что греч. диатриба была не столько лит. жанром, сколько распространенным способом передачи знаний от учителя к ученику в философской школе, а также формой этического наставления. Использование ап. Павлом характерных для диатрибы риторических приемов свидетельствует о том, что он имел начальное философское (или риторико-софистическое) образование, однако не может рассматриваться как аргумент в вопросе о наличии у него собственных кинических убеждений. Т. о., гипотеза о том, что ап. Павел соприкасался с киническими идеями в той форме, в какой они были представлены в эклектических курсах философии эллинистической эпохи, а также мог быть знаком с нек-рыми киническими или близкими к кинизму стоическими диатрибами, является правдоподобной. Однако делаемый из этого вывод об идейной зависимости ап. Павла от кинизма не находит подтверждений в источниках, поскольку отраженное в них общее мировоззрение ап. Павла радикально отличается от кинического (Goulet-Cazé. 2008. Sp. 664-668).
Сопоставление аргументов сторонников и противников учения о киническом характере раннего христианства демонстрирует, что эта концепция, будучи неприемлемой с т. зр. традиц. правосл. библейского и догматического богословия, оказывается крайне сомнительной и с объективно-научной т. зр. Если среди современных библеистов вопросы о концепции «кинического Иисуса», «кинического Павла» и киников-христиан отчасти остаются дискуссионными, то филологи и историки философии, ориентированные на строгую методологию работы с источниками, критически оценивая всю в целом теорию наличия тесной связи между К. и первыми христианами, прямо признают ее «продуктом фантазии» (Döring. 2006. S. 103) и не находят в ней научной убедительности (Goulet-Cazé. 2008. Sp. 663-664, 668; ср.: Desmond. 2008. P. 211-216).
К. в патристической литературе
Упоминания о К. в сочинениях отцов Церкви и древних христ. писателей имеют преимущественно идейный характер: обращение к образам древнего кинизма (Диоген, Кратет) для иллюстрации христ. по содержанию рассуждений встречается намного чаще, чем к.-л. сведения о кинизме как о продолжающем свое существование философском направлении и о совр. христианам отдельных К. Все свидетельства христианских авторов о К. могут быть условно разделены на 3 группы: 1) упоминания о К. исторического характера; 2) положительные суждения о взглядах и поступках древних и новых К.; 3) высказывания, содержащие осуждение некоторых особенностей кинизма, гл. обр. связанного с киническим бесстыдством безнравственного поведения К., а также кинического тщеславия (см.: Boas. 1948; Dorival. Cyniques et Chrétiens. 1993; Idem. L'image des Cyniques. 1993; Krueger. 1993; Idem. 1996. P. 72-89; Desmond. 2008. P. 216-221).
Одно из наиболее ранних исторических упоминаний К. у христ. писателей связано с деятельностью и смертью мч. Иустина Философа (кон. I-II в.). Во «Второй апологии» мч. Иустин выступает против некоего киника Крискента. Этот киник, согласно мч. Иустину, всенародно нападал на христиан и обвинял их в том, что они «безбожники и нечестивцы». По словам мч. Иустина, Крискент нападает на христиан либо потому, что он не познал учения Христова, и в этом случае он - «человек крайне злой и гораздо хуже простолюдинов, которые часто остерегаются говорить о том, чего не знают, и приносить ложное свидетельство»; либо по той причине, что, познав его, он не понял его величия; либо из-за того, что, поняв величие, все равно решил «нападать на христиан, чтобы не заподозрили его, что он христианин» (Iust. Martyr. II Apol. 3). В том же сочинении мч. Иустин сообщает, что готов вести публичный спор с Крискентом, и намекает на то, что Крискент ищет возможности предать его на смерть (Ibidem). По свидетельству Евсевия Кесарийского, к-рое нек-рые совр. исследователи подвергают сомнению вслед. отсутствия сообщаемых им сведений в сохранившихся мученических актах Иустина, Крискент выполнил этот замысел, донеся на Иустина как на христианина гос. властям (см.: Euseb. Hist. eccl. IV 16. 1). Источником Евсевия был Татиан, сообщающий, что «Крискент, угнездившийся в Великом городе, всех превзошел мужеложеством, да и в сребролюбии был весьма прилежен; советуя презирать смерть, он сам настолько ее боялся, что старался предать Иустина... смерти, словно чему-то дурному, потому что тот, возвещая истину, обличал философов как жадных обманщиков» (Tat. Contr. Graec. 19). Свидетельство Татиана позволяет сделать вывод о наличии у Крискента намерения погубить мч. Иустина, а также объясняет его мотивацию; осуществил ли Крискент этот замысел, или он был непричастен к смерти мч. Иустина, достоверно установить невозможно. Еще одно свидетельство об участии К. в процессах против христиан содержится в актах мч. Аполлония († между 183 и 185), где упоминается некий «философ-киник», к-рый во время допроса выступил в защиту языческого мировоззрения и заявил, что, хотя Аполлоний пытается излагать некое глубокое учение, в действительности он пребывает в заблуждении (см.: СДХА. С. 402-403). Несмотря на то что роль участников судебных процессов плохо согласуется с киническим образом жизни, нельзя исключать, что к.-л. К., возможно, выполнявшие роль «придворных философов» влиятельных чиновников Римской империи, действительно выступали против христиан, однако борьба с христианами не была целью кинизма как философского направления (ср.: Dorival. Cyniques et Chrétiens. 1993. P. 59-63; Goulet-Cazé. 2008. Sp. 670-671).
В сочинениях ересеологов мч. Ипполита Римского и сщмч. Иринея Лионского о кинизме иногда говорится при обсуждении еретиков, практиковавших чрезмерный аскетизм: энкратитов (Hipp. Refut. VIII 20; X 19), Маркиона (Ibidem), Валентина и валентиниан (Iren. Adv. haer. II 14. 5) и др. Хотя нельзя исключать, что соприкосновение некоторых христиан с учением К. могло подвигнуть их к неортодоксальным аскетическим практикам, такого рода сопоставления имеют скорее типологический, чем исторический характер.
Основоположником традиции использования рассказов о К. для обоснования нек-рых положений христ. вероучения и нравственного учения является Климент Александрийский, в сочинениях к-рого неоднократно приводятся изречения К., согласующиеся с христ. верой, а также критические высказывания К. о языческой религии (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 6. 71. 2; 7. 75. 3; Idem. Strom. V 108). Наиболее часто он цитировал высказывания, посвященные критике человеческой тяги к удовольствиям, наслаждениям и стяжательству (см.: Idem. Strom. II 107, 119). Использование различных положительных качеств К. в качестве образца, предлагаемого христианам для подражания, встречается у мн. христианских писателей (ср.: Dorival. L'image des Cyniques. 1993. P. 435-437). Ориген в соч. «Против Цельса», отвечая на упрек в том, что христиане проповедуют на улицах перед простыми людьми, указывал, что так поступали и К., к-рые «собирали не каких-либо ученых людей, а звали к себе слушателей с перекрестных улиц» (Orig. Contr. Cels. III 50); он с похвалой упоминает о добровольной бедности Диогена и Кратета (Ibid. II 41; VI 28; ср.: Dorival. L'image des Cyniques. 1993. P. 440-441). Свт. Василий Великий, еп. Кесарии Каппадокийской, в слове «К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями» приводил Диогена как пример презрительного отношения к богатству и мирским благам, а также ссылался на его изречение, в котором высмеивалась излишняя забота о внешности (Basil. Magn. Hom. 22). Свт. Григорий Богослов в похвальном слове, обращенном к кинику Ирону (Максиму), отмечал, что нек-рые полученные Максимом во время кинической жизни навыки могут быть полезны и в христианстве: «В кинической философии он осудил безбожие, а похвалил воздержание от излишнего, и стал... псом против действительных псов, любомудрым против немудрых и христианином для всех. Он пристыжает высокомерие киников сходством наружности, а малосмысленность некоторых из наших - необычностью одеяния, и доказывает собой, что благочестие состоит не в маловажных вещах, и философия - не в угрюмости, но в твердости души, в чистоте ума и в искренней наклонности к добру» (Greg. Nazianz. Or. 25. 6 // PG. 35. Col. 1205). В одном из стихотворений, рассматривая «примеры добродетели», к-рые христиане могут почерпнуть у греч. философов, свт. Григорий упоминает о нищете и умеренности «синопского пса» Диогена и о нестяжательности Кратета; он также приводит историю о том, как один из К., получив от царя талант золота, тут же на весь этот талант купил один хлеб, говоря, что он нуждается лишь в этом. По словам свт. Григория, такая жизнь приличествует христианам, призванным руководствоваться евангельским призывом к преодолению многозаботливости (ср.: Мф 6. 25-34). Вместе с тем свт. Григорий предупреждает, что К., «чтившие нестяжательность и свободную жизнь» нередко стремились к совершенству неверными путями; во-первых, «у них было больше тщеславия, чем любви к добру»; во-вторых, умеренность часто проистекала у них от лени и нежелания трудиться, а не была аскетическим самоограничением (Greg. Nazianz. Carmina. I 2. 10. 218-284 // PG. 37. Col. 696-700). Похвально отзывался о нестяжательности К. Нил Анкирский (IV-V вв.), отмечавший, что они, «наподобие псов, жили не под кровлей и пищу принимали, когда случалось и какую только могли найти». Нил видел в этом верное осознание того, что для «умозрения нужно иметь чистое разумение, не тревожа себя какими-либо заботами о житейских делах», и призвал христиан, «первенствующих пред эллинами в догматах», не быть вторыми по сравнению с ними в жизни и освобождаться от многостяжания (Nil. Ad Magnam. 39-40).
Отрицательные оценки кинизма встречаются уже у раннехрист. апологетов. Так, Татиан насмешливо упрекал К. в том, что они, провозглашая возвращение к природе, вместо уподобления Богу решили уподобляться животным (Tat. Contr. Graec. 25). Мч. Иустин Философ считал, что К. объявляют целью жизни достижение безразличия, и на этом основании утверждал: «Невозможно, чтобы киник, избравши последнею целью безразличие [между добром и злом], признавал какое-нибудь добро, кроме безразличия» (Iust. Martyr. II Apol. 3; в действительности концепция безразличия разрабатывалась не столько в кинизме, сколько в кинизирующем стоицизме; см.: Goulet-Cazé. 2003. P. 112-132). Безразличие К. и их стремление вернуться к природной жизни мн. христ. авторы считали причиной их безнравственного поведения. Бесстыдство К., в качестве кульминации к-рого рассматривалось публичное совокупление («собачий брак»), особенно резко осуждали Феодорит Кирский (Theodoret. Curatio. 12. 49) и блж. Августин (Aug. De civ. Dei. XIV 20). Вместе с тем блж. Августин свидетельствует, что К. его времени такого уже не практиковали, вслед. чего порицание опиралось скорее на слухи и рассказы, чем на реальный опыт общения с К. Мн. идеи К. доходили до христ. писателей в искаженном полемистами с кинизмом виде. Так, Феофил, еп. Антиохийский (II в.), писал, что «безбожный голос Диогена учит детей приносить отцов своих в жертву и пожирать» (Theoph. Antioch. Ad Autol. III 5); здесь доведена до абсурда киническая идея принципиальной допустимости каннибализма. Нередко у христианских авторов встречаются обвинения в адрес К. в том, что их поведение является неискренним и тщеславным; так, Татиан писал о хвастовстве и «надутом словоизвержении» К. (Tat. Contr. Graec. 3); о Диогене, «похваляющемся своей самодостаточностью» (Ibid. 2). Феодорит Кирский, сравнивая христ. подвижников с «Антисфеном, Диогеном и Кратетом», замечал, что христиане трудятся «не ради пустой славы», как К., но ради подлинного блага, «совершая надлежащее так, как надлежит» (Theodoret. Curatio. XII 31). Подобные упреки во многом объясняются тем, что К. воспринимались как безбожники, не верящие в загробную жизнь и воздаяние, поэтому вся их аскетика с т. зр. христ. мировоззрения не могла иметь никакой цели, кроме самовозвеличивания: «Всегда молчать, питаться травою, прикрывать тело худыми рубищами и жить, заключившись в бочке, не ожидая за это никакого воздаяния по смерти,- хуже всякого безумия» (Nil. Exerc. 2; ср.: Dorival. L'image des Cyniques. 1993. P. 428-430; Goulet-Cazé. 2008. Sp. 672-675).
Наличие как положительных, так и отрицательных отзывов о К. свидетельствует, что христ. авторы признавали нек-рые положительные стороны кинической аскетики, однако отличали отдельные черты кинического образа жизни от кинического мировоззрения в целом, к-рое в силу его индивидуалистического и нерелиг. характера было чуждо христианам. Наиболее решительно существенные различия между христианскими святыми и К. подчеркивал свт. Иоанн Златоуст, в «Толковании на Первое послание к Коринфянам» противопоставлявший Диогена и ап. Павла, а в «Слове о блаженном Вавиле, а также против Юлиана» - Диогена и сщмч. Вавилу, еп. Антиохийского (Ɨ 250). Нападая на тщеславие (κενοδοξία), по его мнению, присущее всем язычникам, свт. Иоанн отмечал, что ап. Павел не поступал так, как Диоген, к-рый «без всякой нужды одевался в рубище и жил в бочке, удивлял многих, но пользы не принес никому». Ап. Павел, по словам свт. Иоанна, «не руководился честолюбием», он не стремился привлечь к себе излишнее внимание и добиться похвал, поэтому «одевался со всей благопристойностью, и жил всегда в доме, и был совершен в других добродетелях, которые упомянутый киник презирал, проводя жизнь распутную, поступая бесстыдно перед всеми и увлекаясь безумной страстью тщеславия» (Ioan. Chrysost. In 1 Cor. 35. 4). Рассказывая о том, как сщмч. Вавила запретил войти в церковь нечестивому императору, свт. Иоанн хвалит его рассуждение и противопоставляет поведение епископа поступкам языческих философов, «которые никогда не бывают дерзновенными в меру, а всегда... или больше или меньше надлежащего», так что все рассказы о философах свидетельствуют лишь об их «тщеславии, дерзости и неразумии». Обращаясь для иллюстрации этого тезиса к истории о встрече Диогена с царем Александром Македонским, свт. Иоанн объявляет киническое дерзкое поведение глупым и не заслуживающим подражания вслед. его тщеславного и бесполезного характера: «Не гораздо лучше ли было бы, надев на себя одежду взрослого, быть деятельным и попросить тогда у царя чего-нибудь полезного, нежели сидеть в рубище... Хорошему человеку нужно все делать для общей пользы и для исправления жизни других; а просьба о том, чтобы не заслоняли солнца, спасла ли какой город, какой дом, какого мужчину, какую женщину? Покажи пользу от этого дерзновения!». Христиане в своих подвигах призваны руководствоваться рассуждением и евангельскими нравственными ценностями, делая лишь то, «что честно, что чисто... что достославно, что только добродетель и похвала» (Флп 4. 8), поэтому, по мнению свт. Иоанна, киническое поведение совершенно не приличествует христианам: «У нас никто не заключал себя в бочку и не расхаживал по площади, одевши рубище; такие действия, хотя кажутся удивительными и сопряжены с великим трудом и крайними страданиями, но не заслуживают никакой похвалы» (Ioan. Chrysost. De st. Bab. contra Jul. 7-9 // PG. 50. Col. 541-546). Вместе с тем поступки К. у свт. Иоанна рассматриваются сообразно тому, какой цели они служат и какую пользу приносят; хотя формально он осуждает конкретные действия, в действительности объектом осуждения является ложная мотивация этих действий, отсутствие в них высшей духовной пользы, в случае наличия к-рой те же самые действия могут получить противоположную оценку (ср.: Dorival. L'image des Cyniques. 1993. P. 422-424). Так, во 2-м Слове «К враждующим против тех, которые привлекают к монашеской жизни» свт. Иоанн использовал тот же пример встречи Диогена и Александра, чтобы показать, что нищий и «ходящий в рубищах» человек может ни в чем не нуждаться и чувствовать себя более счастливым, чем земные цари; здесь киник Диоген становится прообразом христ. аскета (Ioan. Chrysost. Adv. oppugn. vitae mon. // PG. 47. Col. 337, 339).
Аскеза К. и христианская аскетика
Сравнения христ. монахов с К. неск. раз встречаются у языческих авторов; основой для таких сравнений служила прежде всего внешняя схожесть облика (нестриженые волосы и небритая борода), стиль одежды (плащ, посох, сума) и поведение (публичные проповеди и обличения). Христ. монахи, в III-IV вв. начавшие появляться в городах Римской империи, мн. язычниками, не разбиравшимися в вероисповедных тонкостях, воспринимались как новая разновидность К. (Goulet-Cazé. 2008. Sp. 684). Однако в действительности монашество не зависело от кинизма в своем возникновении и не было похоже на него ни в идейном содержании, ни в аскетических практиках. К. стремились в большие города и собирали вокруг себя слушателей, тогда как монахи удалялись в пустыню и намеренно лишали себя контактов с обществом; К. отказывались трудиться, а для первых монахов было важным своими руками зарабатывать хлеб; К. добивались самодостаточности и отвергали все формы религ. жизни, в то время как монахи важнейшей частью своего подвига считали молитву и богомыслие. При этом нельзя исключать, что в нек-рых случаях имел место локальный обмен практическим опытом между К. и монахами; так, нек-рые исследователи видят следы стилистического и тематического влияния сборников кинических изречений в апофтегматических памятниках египетского монашества (Ibid. Sp. 683-685; ср.: Doresse. 1944).
Гораздо более сложными были связи с К. возникшей в V-VI вв. новой формы христ. аскезы - юродства ради Христа. О том, что сама идея юродства как подвига первоначально сформировалась в монашеской среде, свидетельствует визант. христ. историк Евагрий Схоластик (Ɨ после 594), одним из первых описавший этот феномен религ. жизни. Предлагая рассказ о формах существования монашества во времена правления имп. Феодосия II (408-450), Евагрий упоминает о «наиболее совершенном» виде монашеского подвига. По его словам, нек-рые монахи, «через добродетель достигнув бесстрастия, возвращаются в мир и, среди шума притворяясь помешанными, таким образом попирают тщеславие». Евагрий сообщает, что эти монахи ведут необычную жизнь: едят и пьют в харчевнях, «не стыдясь ни места, ни лица, вообще ничего»; посещают общественные бани, причем нередко совместно с женщинами, не испытывая при этом природных влечений к ним; алчут и жаждут, вкушая лишь требующуюся для поддержания жизни пищу; тело покрывают настолько, насколько требует необходимость, и т. п. (Evagr. Schol. Hist. eccl. I 21). Т. о., первоначально юродство возникает как особая аскетическая форма жизни монахов, достигших духовного совершенства и возвращающихся из пустыни в мир для «упражнения в смирении». Как и К., эти монахи жили в крупных городах; с киническими философами-аскетами их сближают и детали образа жизни, описанные Евагрием, и представление о том, что исправивший и очистивший свою жизнь человек должен не уходить из общества, а жить в нем, показывая пример добродетели. Уже на самой ранней стадии существования для юродства было характерно «добровольное помешательство», проявлявшееся гл. обр. в вызывающем асоциальном поведении. В этом также можно видеть близость юродства с кинизмом. Различные источники сообщают, что противники К. нередко обвиняли их в том, что они безумны. Так, по позднему свидетельству, Платон называл Диогена «безумствующим Сократом» (Diog. Laert. VI 54); сам Диоген, когда некто назвал его безумцем, ответил: «Я не безумный, но ум у меня не такой, как у вас» (SSReliq. V B 427; АнтКин. С. 135. № 11). Эти слова Диогена созвучны известному изречению одного из основателей православного монашества, прп. Антония Великого: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь»,- потому что он не подобен им» (Apophthegmata Patrum. De abbate Antonio. 25 // PG. 65. Col. 84). Т. о., уже в момент возникновения юродство было своеобразным христ. ответом языческому кинизму; оно заимствовало из кинизма некоторые формы и аскетические идеи, однако наполнило их новым смыслом (подробнее о возникновении и источниках юродства см.: Иванов. 2005. C. 23-102). Важные свидетельства о том, как развивалось юродство в VI в. и позже, содержат памятники агиографической лит-ры.
Первым юродивым, о жизни которого сохранились подробные сведения, является прп. Симеон, подвижническая жизнь к-рого проходила в г. Эмеса (ныне Хомс, Сирия). Краткое сообщение о прп. Симеоне, содержащееся в «Церковной истории» Евагрия Схоластика (Evagr. Schol. Hist. eccl. IV 34), позволяет исследователям отнести время его жизни к периоду правления имп. св. Юстиниана I (527-565). Житие прп. Симеона (BHG, N 1677; рус. пер.: Византийские легенды. М., 1972. С. 53-83) было составлено в VII в. Леонтием, еп. Неаполя Кипрского (ныне Лимасол, Кипр). Хотя автор Жития претендует на историческую достоверность сообщаемых им сведений, совр. исследователи полагают, что в Житии представлен идеализированный парадигматический образ юродивого, определяемый не столько историческими фактами, сколько общим богословско-аскетическим представлением о смысле и необходимых элементах юродства как аскетического подвига (подробнее см.: Krueger. 1996. P. 1-56). Согласно Житию, прп. Симеон в молодом возрасте оставил мир и провел ок. 30 лет в монашеских подвигах в пустыне. В 60-летнем возрасте он, повинуясь внушению от Бога, принял решение вернуться в мир; сообщая о субъективных мотивах этого поступка, автор Жития указывает на стремление прп. Симеона спасти не одного себя (в пустыне), но «также и других» (в городе) и «посмеяться над миром»; оба мотива перекликаются с классической мотивацией кинического поведения. Описывая прибытие прп. Симеона в Эмесу, автор Жития приводит характерную деталь его 1-го поступка в качестве юродивого: «Симеон, увидев на гноище перед стенами дохлую собаку, снял с себя веревочный пояс и, привязав его к лапе, побежал, волоча собаку за собой» (Византийские легенды. 1972. С. 68). По мнению Д. Крюгера, образ собаки в сознании мн. греков этого времени все еще был связан с киниками. Т. о., в сообщении агиографа содержится скрытое указание на то, что христ. подвиг юродства является переосмыслением языческого кинического аскетизма (Krueger. 1996. P. 90-91, 100-106). В Эмесе Симеон начал имитировать безумие и совершать поступки, шокировавшие христ. население города, мн. из к-рых имеют параллели с поступками К. Он нарушал все общественные установления: этические (напр., бил людей и кидался в них камнями, общался и плясал с блудницами, ходил в женскую баню, ругался неприличными словами), культурные (напр., жил и спал на улицах, ходил нагим; совершал публичные акты дефекации), религиозные (напр., публично демонстрировал нарушение церковных постов, гасил светильники в храме, кидался орехами в молящихся). Вместе с тем юродивый в действительности не совершал грехов (имитация кражи, но не кража; имитация блуда, но не блуд и т. п.), тем самым показывая окружающим разницу между законом Божиим (аналогия кинической «природы») и обычаями людей (аналогия кинического «закона»). При этом прп. Симеон наделяется в Житии мн. признаками христ. святого: по ночам он пребывал в молитве, боролся с бесами, мог насылать на людей наказания за грехи и исцелять их, предвидел будущее, пророчествовал, давал наставления (см.: Иванов. 2005. C. 111-118). Агиограф сообщает о двойственной цели всех скандальных поступков прп. Симеона: с объективной стороны он стремился «спасать души людские либо постоянно причиняемым в насмешку вредом, либо творимыми на шутовской лад чудесами, либо наставлениями, которые он давал под видом юродства»; с субъективной стороны он желал полностью искоренить в себе гордость и тщеславие, поэтому «его целью было скрыть добродетель, дабы не иметь от людей ни хвалы, ни чести» (Византийские легенды. 1972. С. 75).
Еще одним памятником агиографической лит-ры, содержащим подробное описание поведения юродивого, является Житие прп. Андрея Юродивого (BHG, N 115z - 117k; рус. пер.: Желтова. 2007. С. 22-155). Созданное предположительно в X в., Житие относит подвиги прп. Андрея к V в., однако, вероятнее всего, прп. Андрей жил намного позже - в IX-X вв. Переведенное на слав. язык в XI - нач. XII в., Житие прп. Андрея имело огромную популярность на Руси и оказало определяющее влияние на рус. понимание подвига юродства (Желтова. 2007. С. 20-21). Как и в Житии прп. Симеона, в Житии прп. Андрея в скрытой форме присутствует образ собаки, указывающий на связь юродства с кинизмом: для ночлега прп. Андрей «искал на улице место, где лежат собаки; прогнав пса, он ложился на его место и почивал, словно на постели»; просыпаясь утром, прп. Андрей говорил сам себе: «Ты выспался как пес среди псов (κύων μετὰ κυνῶν), пойдем поработаем снова». Связь с кинизмом можно увидеть и в описании облика юродивого: он был «голый, не имел ничего, даже циновки, но ходил в одной шерстяной накидке», жил «в голоде и в жажде, страдая от холода и жары» (PG. 111. Col. 652; Желтова. 2007. С. 30-31). Как и прп. Симеон, прп. Андрей совершал множество скандальных поступков, подвергался за свое поведение насмешкам и даже избиениям (Желтова. 2007. С. 11-12). Вместе с тем автор Жития намеренно подчеркивает, что прп. Андрей, являющийся для непосвященных безумцем, для своих последователей оказывается наставником в истине: так, в беседах с юношей Епифанием он предлагает ответы на сложные богословские, философские и духовно-практические вопросы, фактически становясь христианизированным «уличным философом».
Материал 2 образцовых Житий позволяет выделить как черты сходства, так и отличия между К. и христ. юродивыми. О сходстве юродства с кинизмом свидетельствуют: 1) внешний облик и образ жизни; 2) скандальное и вызывающее поведение, нередко имеющее соблазнительный сексуальный характер; 3) дерзость речи, соединяющаяся с особого рода мудростью, когда «безумствующий» в кратком изречении высказывает вполне разумную, хотя и парадоксальную истину; 4) общественная функция, связанная с критикой общепринятых установлений, с обличением ханжества, лицемерия, стяжательства и др. пороков. Отличия обусловлены тем, что христианизация кинизма требовала как освобождения его от всех элементов, потенциально способных провоцировать в аскете тщеславие и гордость, так и введения в него нового основания, связанного с преодолением человеческого индивидуализма в религ. отношении к Богу. Если К. стремятся быть самодостаточными, то христ. юродивые желают во всем зависеть от Бога и служить духовной пользе ближних. Киническое стремление к индивидуальному счастью у юродивых сменяется стремлением к блаженству в Боге и к уподоблению Иисусу Христу, для достижения чего они считали необходимым практиковать максимально возможное смиренное самоумаление, намеренно навлекая на себя поругания. Поэтому в своих «безумствах» юродивые нередко превосходят К., не стремившихся специально быть объектами осмеяния. «Юродивый сочетает в себе черты пророка и киника» (Иванов. 2005. С. 29): от христ. пророка он заимствует сознание покорности воли Божией, направляющей все его поступки, а также способность созерцать тайны Божии и прикровенно сообщать их людям; от К. воспринимает аскетизм и внутреннее стремление к служению людям, к-рое внешне проявляется в скандальном поведении, дерзких речах и обличениях. Типологическая связь юродства с кинизмом всегда оставалась очевидной для образованных греч. авторов и воспринималась как вполне естественная. Так, визант. писатель XIV в. Никифор Григора, рассказывая в Житии Иоанна, митр. Ираклийского, о находившемся при имп. дворе в К-поле юродивом, отмечает, что тот был «благочестивый киник, так сказать Диоген, который для виду изображал глупость, а в действительности выполнял Божию работу, которую способен узреть лишь тот, кто созерцает невидимое» (Laurent V. La Vie de Jean, métropolite d'Héraclée du Pont // ᾿Αρχεῖον Πόντου. ᾿Αθῆναι, 1934. Τ. 6. Σ. 38; ср.: Иванов. 2005. С. 210).
Социально-политическая составляющая деятельности юродивых, нехарактерная для визант. святых, к-рые почти не выступали с критикой властей, наиболее ярко проявилась в рус. юродстве. Так, жившие во время правления ц. Иоанна IV Васильевича Грозного юродивые (св. Василий Блаженный Московский, Николай Саллос Псковский и др.) неоднократно обличали неправедные поступки царя и вельмож. По свидетельству англ. дипломата Дж. Горсея, в Пскове Николай «встретил царя смелыми проклятиями, заклинанием, руганью и угрозами, называл его кровопийцей, пожирателем христианской плоти» и этим поступком спас Псков от разорения (Горсей Дж. Записки о России: XVI - нач. XVII в. М., 1990. С. 54; ср.: Иванов. 2005. С. 271-277). Сохраняя предельный аскетизм, признаки святости и скандальность поведения, присущие их греч. предшественникам, рус. юродивые приобретают дополнительную функцию неподкупного судьи, выносящего независимое суждение по политическим вопросам и способного в одиночку противостоять абсолютистской власти (подробнее см.: Иванов. 2005. С. 279-281). Такая роль типологически сближает их как с греч. К., высмеивавшими царей и тиранов, так и с К. Римской империи, обличавшими императоров и сановников.
То, что юродство в христианстве не стало столь распространенным явлением, как кинизм в языческом обществе, объясняется принципиальным различием между христианским и киническим мировоззрением. Если кинизм стремился упразднить закон и вернуть человека в природу, то христианство упраздняет «закон природы» и вводит «закон благодати», призванный освободить человека как от природных, так и от общественных недостатков. Христианство не отвергает общество целиком и не противопоставляет человека обществу, как это делали К., но стремится освятить своим присутствием все формы жизни общества, придать им новый смысл и новую цель. Однако в той мере, в какой христианство ведет свою проповедь в мире, «лежащем во зле» (ср.: 1 Ин 5. 19) и не желающем слышать «слово истины» (ср.: 2 Кор 6. 7; Ин 18. 37; 1 Ин 4. 6), «кинический» подвиг юродивых, добровольных безумцев ради Христа, собственной жизнью демонстрирующих людям их уклонение от правды Божией, почитается в Церкви как высокое религ. служение.