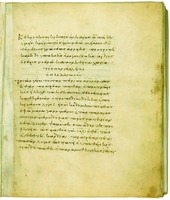Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Как приобрести тома "Православной энциклопедии"
- Жизнь
- Источники
- Происхождение, образование, обращение в христианство
- Деятельность К. А. в Александрии; Александрийская школа
- Последние годы жизни
- Сочинения
- Источники учения К. А. и его отношение к ним
- Священное Писание
- Церковное Предание
- Античная и эллинистическая философия
- Филон Александрийский
- Гностицизм
- Учение
- Философско-богословская пропедевтика: вера и знание.
- Учение о Боге
- Триадология
- Учение о Логосе (Сыне Божием)
- Пневматология
- Учение о творении
- Христология и сотериология
- Христианская жизнь и ее цель
- Экклезиология
- Сакраментология
- Эсхатология
- Рецепция учения К. А. в христианском богословии; вопрос о почитании К. А.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
[греч. Κλήμης ὁ ᾿Αλεξανδρεύς; лат. Clemens Alexandrinus] (II-III вв.), раннехрист. церковный учитель и писатель, богослов, философ; один из основателей Александрийской богословской школы (см. в ст. Богословские школы древней Церкви).
Жизнь
Источники
Имеющиеся в древней христ. лит-ре биографические свидетельства о К. А. весьма скудны; из сочинений К. А. можно извлечь лишь косвенные данные о его жизни крайне общего характера. Основным и наиболее подробным источником сведений о жизни, а также о церковной и лит. деятельности К. А. является «Церковная история» Евсевия, еп. Кесарии Палестинской (III-IV вв.), у к-рого К. А. неоднократно упоминается в контексте общего повествования об истории христиан в Александрии и Александрийской школы (см.: Euseb. Hist. eccl. I 12. 2; II 1. 3-5; 9. 2; III 23; 29-30; IV 26. 4; V 11; VI 6; 11. 6; 13-14). По оценкам совр. исследователей, еп. Евсевия нельзя считать в его повествовании об Александрийской Церкви вполне непредвзятым свидетелем, поскольку, будучи убежденным сторонником Оригена (II-III вв.), он стремился представить его продолжателем авторитетной церковной и педагогической традиции, восходящей к апостолам; т. о., сообщения еп. Евсевия о К. А. требуют критического анализа и должны соотноситься с данными др. источников (ср.: Ashwin-Siejkowski. 2008. P. 19; Itter. 2009. P. 7-15). Последующие церковные историки и хронисты, упоминавшие К. А., в основном опирались на рассказы о нем у еп. Евсевия; их краткие сообщения не добавляют ничего существенно нового к сведениям, известным из «Церковной истории». Важным исключением является сохранившееся в кратком изложении свидетельство христианского историка Филиппа Сидского (V в.), в к-ром повествуется об истории Александрийской школы и содержится упоминание К. А. в числе ее дидаскалов (Aus Philippos von Side // Theodoros Anagnostes. Kirchengeschichte / Hrsg. G. Chr. Hansen. B., 19952. S. 160). Однако вслед. расхождений свидетельства Филиппа Сидского с данными еп. Евсевия и присущих ему внутренних несоответствий оно также должно восприниматься критически (см.: Сагарда. 1917. С. 102-108; Pouderon. 1997). Краткие упоминания о К. А., сообщения о времени и обстоятельствах его жизни, а также цитаты из его сочинений встречаются у свт. Епифания Кипрского (IV-V вв.), свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (IV-V вв.), блж. Иеронима Стридонского (IV-V вв.), Феодорита, еп. Кирского (V в.), прп. Анастасия Синаита (VII-VIII вв.), свт. Фотия I, патриарха К-польского (IX в.), и др. церковных писателей (см.: Epiph. Adv. haer. 31. 33; 32. 6; Cyr. Alex. Contr. Jul. VI, VII, X // PG. 76. Col. 813, 853, 1028; Hieron. De vir. illustr. 38; Idem. Ep. 70. 4; Theodoret. Haer. fab. I 4, 6, 19, 21; III 1; Anast. Sin. Hom. in Ps. 6 // PG. 89. Col. 1105; Idem. Hom. in Ps. 6 (Ed. alt.) // Ibid. Col. 1136; Phot. De Spirit. Sanct. mystag. 75; Idem. Bibl. 109-111, 118). Кроме того, о К. А. упоминают в историко-хронологических сочинениях визант. историки Сократ Схоластик (V в.), Иоанн Малала (V-VI вв.), Георгий Синкелл (VIII-IX вв.), Георгий Амартол (IX в.), Симеон Логофет (X в.), Георгий Кедрин (XI-XII вв.), Михаил Глика (XII в.) и др. (наиболее важные фрагменты из сочинений древних христ. писателей, содержащие свидетельства о К. А., опубл.: Stählin. 1905. S. IX-XVI; перечень см.: Feulner. 2006. S. 21).
Происхождение, образование, обращение в христианство
Точная дата рождения К. А. неизвестна; приблизительная датировка дается на основании отнесения хронистами времени его «расцвета» (ἀκμή) или «известности» к кон. 80-х - нач. 90-х гг. II в. Учитывая, что традиц. возраст «расцвета» равен примерно 40 годам, совр. исследователи полагают, что К. А. род. между 150 и 160 гг. (Feulner. 2006. S. 23). Существует 2 версии относительно места рождения К. А., восходящие к свидетельству свт. Епифания, еп. Кипрского, по словам к-рого в его время К. А. «одни называли александрийцем, другие - афинянином» (ὅν φασί τινες ᾿Αλεξανδρέα, ἕτεροι δὲ ᾿Αθηναῖον - Epiph. Adv. haer. 32. 6). По мнению немногочисленных сторонников 1-й версии, К. А. происходил из Александрии, а упоминание свт. Епифания о нем как об афинянине отражает последующую идеализацию образа К. А., т. к. считалось, что всякий, претендующий на то, чтобы называться философом и знатоком греч. философии, должен учиться в Афинах или быть как-либо связан с этим городом (Quatember. 1946. S. 18-23). Хотя об афинском происхождении К. А. упоминает лишь свт. Епифаний, а во всех др. источниках Климент называется Александрийским без уточнения, идет ли речь о его происхождении или о прозвании, большинство совр. исследователей считают достоверной 2-ю версию и признают родным городом К. А. Афины (см., напр.: Quasten. Patrology. Vol. 2. P. 5; Ashwin-Siejkowski. 2008. P. 19; Морескини. 2011. P. 123). Упоминания о К. А. как об александрийце придерживающиеся 2-й версии ученые объясняют тем, что с этим городом была связана его известность в качестве писателя и христ. учителя. При этом, следуя рассуждениям нем. протестант. теолога и библеиста Т. Цана (1838-1933), они обращают внимание на то, что К. А. при упоминании об учителях, с которыми он встречался в странствиях, 1-м пунктом этих странствий называет Грецию, а последним - Египет (Clem. Alex. Strom. I 1. 11. 2), т. е. Александрию; такая география была бы странной, если бы он был уроженцем Александрии (см.: Zahn. 1884. S. 161-163; Bardenhewer. 1914. S. 40; Stählin. 1934. S. 9-10; Feulner. 2006. S. 23; Сагарда. 2004. С. 415). Э. Осборн в качестве косвенного подтверждения 2-й версии указывает также на слова К. А. в «Увещевании к язычникам», в которых Афины представляются как центр философской учености, потерявший, однако, свое значение после явления христ. истины: «После того как Само Слово спустилось к нам с неба, не нужно более ходить на обучение к людям, стремясь в Афины, и в остальную Элладу, и в Ионию... вся вселенная стала у Него Афинами и Элладой» (Clem. Alex. Protrept. 11. 112. 1; Osborn. 2005. P. 21).
Сведения о семье К. А. и ее положении в обществе не сохранились. Основные гипотезы относительно происхождения и социального статуса К. А. тесно связаны с попытками объяснить его полное имя - Тит Флавий Климент. В источниках это имя упоминается дважды, причем оба раза в связи с соч. «Строматы». Согласно еп. Евсевию Кесарийскому, полное название произведения было следующим: «Тита Флавия Климента Строматы гностических памятных заметок согласно истинной философии» (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 1); свт. Фотий, патриарх К-польский, приводит похожее полное название (Phot. Bibl. 111). Поскольку тройное имя К. А. встречается лишь в 2 источниках, нельзя целиком исключать, что это имя было добавлено переписчиками, ошибочно отождествившими К. А. и некоего иного Климента, носившего римское имя. Вместе с тем большинство ученых считают, что К. А. действительно имел тройное римское имя и предлагают различные объяснения этого. Для корректной интерпретации имени К. А. важно учитывать, что до издания в 212 г. рим. имп. Каракаллой (198-217) эдикта о даровании рим. гражданства всем свободным мужчинам Римской империи (Constitutio Antoniniana) тройное имя в подавляющем большинстве случаев указывало на то, что его носитель был рим. гражданином и обладал соответствующими правами (о развитии системы рим. имен в этот период см.: Salway. 1994). Т. о., имя К. А. свидетельствует о том, что он родился в семье рим. гражданина и изначально имел достаточно высокое социальное положение. Включение К. А. своего полного имени в заглавие «Стромат» как основного и наиболее пространного сочинения в этом случае может быть объяснено его желанием подчеркнуть свой высокий гражданский статус перед читателями из язычников; в случае прочих произведений либо сам К. А. ограничивался одним личным именем, либо последующие переписчики сменили изначальные заглавия (в рукописях «Увещевание к язычникам» и «Педагог» обозначены как сочинения «Климента, автора Стромат»; такая форма заглавий очевидно не восходит к К. А.).
Дополнительные возможности для интерпретации полного рим. имени К. А. связаны с тем, что имя Тит Флавий в I в. носили 3 рим. императора династии Флавиев: Тит Флавий Веспасиан (69-79), Тит Флавий Веспасиан (79-81) и Тит Флавий Домициан (81-96). Полным тезкой К. А. был племянник имп. Веспасиана и двоюродный брат имп. Домициана Тит Флавий Климент, бывший рим. консулом при имп. Домициане в 95 г. и в том же году казненный по приказу императора. Причины казни до конца неясны (см.: Suet. Domit. 15. 1; Dio Cassius. Hist. Rom. LXVII 14. 1-2). Еп. Евсевий Кесарийский утверждает, что Флавия Домицилла была сослана за исповедание христианства (Euseb. Hist. eccl. III 18. 4), однако ничего не говорит о консуле; упоминание о нем как о христ. мученике встречается лишь в поздних источниках, напр. у Георгия Синкелла (Georg. Sync. Chron. P. 419), и может быть христ. идеализацией. По мнению исследователей, полное совпадение имени К. А. и рим. консула I в. едва ли является случайностью. Существует неск. объяснений этого, исходя из к-рых строятся различные гипотезы о происхождении К. А. (обзор см.: Quatember. 1946. S. 23-25). Согласно 1-й гипотезе, К. А. был потомком одного из представителей рода Флавиев или некоего лица, усыновленного Флавиями. Нельзя исключать и того, что он был прямым потомком консула Тита Флавия Климента, т. к. Гай Светоний Транквилл свидетельствует, что у консула было 2 сына (Suet. Domit. 15. 1), о судьбе к-рых после казни их отца источники ничего не сообщают; можно предположить, что они покинули Рим вместе с матерью и впосл. кто-либо из их потомства мог оказаться в Греции. В соответствии со 2-й гипотезой, К. А. был потомком вольноотпущенника Флавиев и получил родовое имя в честь прежних хозяев; вольноотпущенники обычно присоединяли к собственному имени 2 имени прежних хозяев, в данном случае это имена Тит Флавий (Stählin. 1934. S. 10; Feulner. 2006. S. 24). Сторонники 3-й гипотезы полагают, что К. А. намеренно взял себе имя рим. консула. В отечественной науке последняя гипотеза была подробно развита А. Ю. Братухиным, по мнению которого К. А. (либо при крещении, либо позднее в качестве своеобразного псевдонима) добавил 2 рим. имени (Тит Флавий) к собственному имени (Климент) в честь рим. консула, которого он считал мучеником за Христа (см.: Братухин. 2011). Эта гипотеза, однако, представляется неубедительной по неск. причинам: в сочинениях К. А. нет никаких следов особого почитания им римского консула и ни одного упоминания о нем; самовольное принятие тройного рим. имени греком могло расцениваться как неправомерное притязание на рим. гражданство и потому крайне маловероятно; если К. А. был рим. гражданином по рождению, он уже имел тройное имя, а не единственное имя Климент; принимая имя в честь кого-либо, рим. граждане в отличие от греков в этот период обычно добавляли новое имя к прежним, а не меняли имя. Т. о., на основании полного имени К. А. можно с большой долей вероятности заключить, что он происходил либо из семьи поселившегося в Греции рим. аристократа, либо из семьи состоятельного греч. вольноотпущенника.
Весомым аргументом в пользу гипотезы о происхождении К. А. из состоятельной и занимавшей высокое положение в обществе семьи является полученное им блестящее классическое образование. К. А. знал и цитировал не только религ. и философские, но и мн. лит. произведения, что не было свойственно представителям традиц. греч. философских школ этого времени, однако было характерно для писателей, происходивших из состоятельных семей или имевших богатых покровителей, ведших свободную жизнь «любителей мудрости» и общавшихся с представителями высших кругов рим. и греч. аристократии, напр. для Плутарха (I-II вв.), Фаворина (I-II вв.), Авла Геллия (II в.). Сочинения К. А. свидетельствуют, что он разбирался в изобразительном искусстве и в музыке, хорошо знал общественный этикет и религ. обычаи.
На основании повествований К. А. о греч. мистериях нек-рые исследователи заключали, что К. А. в ранний период жизни, еще находясь в Греции, был посвящен в мистерии. В «Увещевании к язычникам» К. А. заявлял: «Если вы посвящены, то будете смеяться более других над этими чтимыми у вас мифами. Я открыто поведаю о сокровенном, не стыдясь говорить о том, чему вы не стыдитесь поклоняться» (Clem. Alex. Protrept. 2. 14. 1), а также приводил «тайную формулу» (σύνθημα) элевсинских мистерий (Ibid. 2. 21. 2; анализ сообщения К. А. см.: Picard. 1958). Если бы К. А. не проходил посвящения, он едва ли стал бы обращаться к посвященным, т. к. они легко смогли бы уличить его во лжи; т. о., уверенность в достоверности собственных сведений о мистериях, вероятнее всего, проистекала у К. А. из личного опыта. Такого мнения придерживался еп. Евсевий Кесарийский, ссылавшийся на описание мистерий у К. А. и называвший его в связи с этим «мужем, который на опыте испытал все, однако быстро отверг заблуждение после освобождения от зла спасительным словом и евангельским учением» (Euseb. Praep. evang. II 2. 64). Нек-рые совр. ученые считают неточным содержащееся в «Увещевании к язычникам» описание элевсинских мистерий и отвергают возможность того, что К. А. был в них посвящен (см., напр.: Mylonas. 1961. P. 288-305), а также выдвигают предположение, что он пользовался для описания мистерий неизвестным ныне языческим сочинением (Riedweg. 1987. S. 117-123, 158). Др. исследователи полагают, что посвящение могло иметь место (Stählin. 1934. S. 17-18; Picard. 1958; Méhat. 1966. P. 43; Jakab. 2001. P. 119); при этом кажущиеся неточности и искажения могут быть объяснены полемической направленностью изложения: зная о возможности различного толкования мистериальных символов и атрибутов, К. А. намеренно подчеркивал их непристойный характер и замалчивал более возвышенные объяснения содержания мистерий. Смешивая ритуалы и символы различных мистерий, К. А. отчасти стремился отразить действительный синкретизм, присущий греч. религии в I-II вв., а отчасти - создать впечатление хаотичности и абсурдности мистериальных обрядов.
Языческое образование К. А. и его осведомленность относительно языческих религ. практик традиционно рассматриваются как подтверждение гипотезы о том, что он происходил из нехрист. семьи и обратился в христианство в зрелом возрасте. Косвенное обоснование этого ученые находят как в свидетельстве еп. Евсевия Кесарийского о том, что К. А. «оставил заблуждение» (Euseb. Praep. evang. II 2. 64), так и в словах самого К. А.: «Отрекаясь от ветхих мнений, мы молодеем для спасения» (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 1). Вместе с тем К. А. нигде не рассказывает подробно о своем обращении и крещении; вероятно, в его случае речь шла скорее о постепенном приобщении к христианству, чем о внезапной перемене убеждений.
Деятельность К. А. в Александрии; Александрийская школа
Время пребывания К. А. в Александрии датируется в ряде визант. хроник и исторических сочинений, вслед. чего оно может быть определено достаточно точно. Согласно наиболее раннему и надежному свидетельству «Хронографии» (CPG, N 1690) раннехрист. писателя и историка Юлия Африкана (II-III вв.), к-рое цитируется в «Хронике» Симеона Логофета (Sym. Log. Chron. 66. 3) и у Георгия Кедрина (Cedrenus G. Comp. hist. Vol. 1. P. 441), «Климент, автор Стромат, стал известен в Александрии (Κλήμης ὁ Στροματεὺς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἐγνωρίζετο)» в правление рим. имп. Луция Элия Аврелия Коммода, т. е. между 180 и 192 гг. (Jul. Afric. Chron. Fragm. 97). Иоанн Зонара (XI-XII вв.) предлагает более точную датировку, сообщая, что «в первый год правления Коммода Александрийскую кафедру получил Юлиан... и тогда же сделался известным Климент, автор Стромат, и философ Пантен, приверженец и глашатай нашего таинства» (Zonara. Epit. hist. XII 5). «Тогда же» в данном случае не обязательно относится к 1-му году правления имп. Коммода, однако указывает, что К. А. «сделался известным» при еп. Юлиане, т. е. до 189 г., когда Александрийскую кафедру занял еп. Димитрий (189-231). Вероятнее всего, источником Зонары была «Церковная история» еп. Евсевия Кесарийского, где также сообщается, что К. А. «был известен в Александрии» при имп. Коммоде и еп. Юлиане (Euseb. Hist. eccl. V 9. 1; 11. 1). Блж. Иероним Стридонский, опиравшийся на данные еп. Евсевия Кесарийского, относил, однако, деятельность К. А. в Александрии к началу правления рим. имп. Септимия Севера (193-211) и датировал ее 194 г. (Die Chronik des Hieronymus / Ed. R. Helm. B., 19562. S. 211). В «Хронике» Георгия Амартола также сказано, что К. А., Симмах и Ориген «стали известны» при имп. Септимии Севере (Georg. Mon. Chron. 8. 22 // Idem. 1904. Vol. 2. P. 452; ср. слав. версию в рус. пер.: Временник Георгия Монаха. М., 2000. С. 246; в интерполированной версии, опубликованной в «Патрологии» Ж. П. Миня, содержится дополнительное упоминание, согласно к-рому К. А. «был в Александрии» при имп. Коммоде; см.: PG. 110. Col. 532). Георгий Синкелл поместил следующее сообщение о К. А. между 193 и 204 гг. (1-й период правления имп. Септимия Севера; предлагаемая Георгием Синкеллом датировка «от воплощения Божия» на 8 лет отличается от совр. летосчисления от Р. Х., поэтому он датирует этот промежуток 185-196 гг.): «Климент, автор Стромат, пресвитер Александрийский, достойнейший учитель, просиял, создавая сочинения по философии, согласной с учением Христа (ἐν τῇ κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίᾳ συντάττων διέλαμπε)» (Georg. Sync. Chron. P. 434). Различная датировка «расцвета» К. А., вероятнее всего, объясняется тем, что в «Церковной истории» еп. Евсевия Кесарийского присутствует 3 повествования о К. А.: 1-е, краткое, помещено после упоминания о начале правления Коммода (Euseb. Hist. eccl. V 11); 2-е, также краткое (Ibid. VI 6. 1), вставлено сразу после сообщения о событиях, связанных с гонениями Септимия Севера; 3-е, подробное, с перечнем сочинений (Ibid. VI 13. 1 - VI 14. 9), формально относится к рассказу о времени правления имп. Каракаллы (ср.: Ibid. VI 8. 7).
Об обстоятельствах, предшествовавших появлению К. А. в Александрии, известно из его собственного свидетельства в 1-й кн. «Стромат». Говоря об этом сочинении как о «памятных заметках», К. А. утверждает, что они являются «безыскусным образом и черновым изображением ярких и воодушевленных слов», к-рые он когда-то слышал от «мужей блаженных и поистине достославных». К. А. приводит далее перечень этих мужей; не называя их имен, он сообщает лишь, откуда каждый из них происходил и где он с ними встречался: «Из них один был в Греции, иониец, другие же в Великой Греции (из которых первый был из Келесирии, а второй - из Египта), были еще и другие на Востоке (один из Ассирийской земли, а другой, который был в Палестине, еврей по рождению); когда же случайно встретил я последнего (причем по своему достоинству он был первым), я обрел покой, уловив его, скрывавшегося в Египте. Он был поистине сицилийской пчелой и, собирая мед с цветов пророческого и апостольского луга, запечатлевал в душах слушателей некое чистое сокровище познания» (Clem. Alex. Strom. I 1. 11. 1-2; в русских переводах Н. Н. Корсунского (Строматы. 1892. С. 14) и Е. В. Афонасина (Строматы. 2003. Т. 1. С. 83) смысл этого отрывка искажен; варианты корректного рус. пер. см.: Сагарда. 1917. С. 92-93; Сидоров. 1998. С. 59). Все эти мужи, по словам К. А., «сохраняли неповрежденным истинное предание блаженного учения», которое они получили «напрямую (εὐθύς) от Петра и Иакова, Иоанна и Павла, святых апостолов». Т. о., К. А. ведет речь не просто об учителях мудрости, но о христ. учителях, к-рые общались с апостолами и в своих проповедях «передавали прародительские и апостольские семена» истинной веры (Clem. Alex. Strom. I 1. 11. 3). По мнению Цана, осуществившего подробный филологический и содержательный анализ этого отрывка, К. А. обратился в христианство в Афинах; после обращения он путешествовал по Средиземноморью, посещая христ. общины и слушая проповеди наиболее известных и авторитетных христ. учителей. Последовательность называемых К. А. мест, в к-рых он встречался с учителями, по утверждению Цана, поддержанному мн. последующими учеными, соответствует ходу путешествия, начальной точкой которого были Афины, а заключительным пунктом стала Александрия (см.: Zahn. 1884. S. 161-163; см.: Méhat. 1966. P. 54).
Хотя в науке XIX-XX вв. предпринимались попытки отождествить «мужей» К. А. с известными христ. писателями 2-й пол. II в., ввиду недостаточности предоставленных К. А. сведений все подобные отождествления остаются целиком гипотетическими. Цан, опираясь на слова К. А.: «Пресвитеры не писали» (Clem. Alex. Eclog. proph. 27; рус. пер. и критический комментарий см.: Сагарда. 1917. С. 96-101) и на неоднократно встречающиеся в сочинениях К. А. заявления, что он сообщает «устное предание», полагал, что поиск учителей К. А. среди известных христ. писателей II в. заведомо некорректен (Zahn. 1884. S. 163-164). Однако еп. Евсевий Кесарийский в «Церковной истории», сообщая, что К. А. беседовал со «старыми пресвитерами», называет имена свт. Мелитона, еп. Сардского (II в.), и сщмч. Иринея, еп. Лионского (II в.); он утверждает, что друзья вынуждали К. А. «записать для будущих поколений то, что он своими ушами слышал» от пресвитеров (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 9). Здесь к числу пресвитеров отнесены известные церковные писатели, что демонстрирует шаткость доводов Цана; вместе с тем уверенно соотнести кого-либо из них с «мужами» невозможно. Само отождествление «мужей» и «пресвитеров» также является спорным, т. к. учителя К. А. могли быть не предстоятелями христ. общин, епископами или священниками, а странствующими христ. проповедниками-миссионерами. А. И. Сагарда, не принимая т. зр. Цана, пытался обосновать гипотезу, что первым учителем К. А. и упоминаемым им «ионийцем» был христ. апологет Афинагор Афинский (II в.). По мнению Сагарды, К. А. был учеником Афинагора в Греции и расстался с ним до написания Афинагором апологетического соч. «Предстательство за христиан» (Supplicatio pro Christianis; CPG, N 1070), т. е. между 165 и 180 гг.; этим Сагарда объясняет отсутствие в сочинениях К. А. ссылок на апологию Афинагора. Для обоснования своего тезиса Сагарда предложил также оригинальную интерпретацию свидетельства Филиппа Сидского об Александрийской школе; он считал, что содержащееся в этом свидетельстве утверждение, что К. А. был учеником Афинагора, является исторически верным, однако не имеет никакого отношения к Александрии и Александрийской школе (Сагарда. 1917. С. 102-108). Упоминаемого К. А. учителя «из Келесирии» некоторые исследователи отождествляли с христианским апологетом Татианом (II в.), а учителя «из Египта» - с его единомышленником Кассианом Юлием (II в.). Однако, по справедливому замечанию Сагарды, хотя К. А. знал сочинения Татиана и действительно мог встречаться с ним и с Кассианом Юлием во время путешествий, в «Строматах» он упоминает о них лишь с целью критики (см., напр.: Clem. Alex. Strom. III 12. 81. 1; 13. 91. 1), так что едва ли стал бы причислять их к «блаженным и достославным мужам» (см.: Zahn. 1884. S. 164; Сагарда. 1917. С. 108-111; ср.: Сидоров. 1998. С. 63-64).
Большинство исследователей полагают, что последним из «мужей», т. е. тем, с кем К. А. познакомился в Александрии, является александрийский христ. учитель Пантен. Этого мнения придерживался еп. Евсевий Кесарийский, сообщающий в «Церковной истории» в связи с рассказом К. А. о его учителях, что в соч. «Очерки» К. А. упоминал «Пантена по имени как учителя» (ὀνομαστ... ὡς ἂν διδασκάλου τοῦ Πανταίνου μέμνηται - Euseb. Hist. eccl. V 11. 2), а также утверждающий, что в том же сочинении К. А. приводил «толкования Священного Писания» Пантена и «полученные от него предания» (Ibid. VI 13. 2). Руфин Аквилейский (IV-V вв.) в лат. переводе «Церковной истории» передает это свидетельство в более точном виде: «Климент в седьмой книге Очерков упоминает о Пантене как о своем учителе и наставнике (tamquam magistri et praeceptoris sui)» (Eusebius. Die Kirchengeschichte / Hrsg. E. Schwartz, Th. Mommsen. B., 1903. Bd. 1. S. 453); указание на «седьмую книгу» может свидетельствовать о том, что Руфин сверил сообщение еп. Евсевия Кесарийского с текстом доступного ему сочинения К. А. (Nautin. 1953. P. 146). Свт. Фотий, патриарх К-польский, читавший «Очерки», также подтверждает, что К. А. в них «сам говорит», что был учеником Пантена (μαθητὴς δέ, ὡς κα αὐτός φησι, γέγονε Πανταίνου - Phot. Bibl. 109). В соч. «Избранные места из пророческих писаний» К. А. упоминает о «нашем Пантене» (ὁ Πάνταινος ἡμῶν - Clem. Alex. Eclog. proph. 56), однако в др. сохранившихся сочинениях К. А. имя Пантена не встречается. Исследователи, соглашающиеся с отождествлением «сицилийской пчелы» в «Строматах» с Пантеном, расходятся в вопросе о том, следует ли в этом образе видеть скрытое указание на то, что Пантен был уроженцем Сицилии (аргументацию в пользу этого см.: Zahn. 1884. S. 161; Telfer. 1927. P. 169-170; Pouderon. 1997. P. 43). Поскольку распространенным было представление о том, что один из лучших сортов меда происходит с Сицилии (см., напр.: Varro. Res rust. III 16. 14; Plin. Sen. Natur. hist. XI 13. 32), метафора может быть и не связана с происхождением Пантена (см.: Chadwick. 1954. P. 16; Ashwin-Siejkowski. 2008. P. 24; система образов К. А. в целом является реминисценцией Еврипида: Eur. Hipp. 73-82). Еп. Евсевий Кесарийский сообщает, что Пантен «был воспитан в правилах стоической философии» (Euseb. Hist. eccl. V 10. 1); Филипп Сидский называет его пифагорейцем (φιλόσοφος Πυθαγόρειος; Aus Philippos von Side // Theodoros Anagnostes. Kirchengeschichte. 1995. S. 160), однако это не обязательно означает формальную принадлежность к пифагорейской школе и может свидетельствовать о том, что Пантен, как и ряд др. философов этого времени, стремился совместить в своем учении стоицизм и пифагоризированный платонизм. Из цитируемого еп. Евсевием Кесарийским письма Оригена следует, что Пантен в Александрии рассматривал «философские и еретические учения об истине» и вел беседы не только с христианами, но и с язычниками (Euseb. Hist. eccl. VI 19. 12-13). Т. о., на основании неск. источников можно с уверенностью заключить, что Пантен был учителем в Александрии, что он преподавал не только христ. учение, но и философию, что К. А. был с ним знаком и относился к нему как к учителю. Менее убедительными являются утверждения, что Пантен «после многих благих дел стал наконец руководить Александрийским училищем» (Euseb. Hist. eccl. V 10. 4; традиц. рус. пер. (Церковная история. М., 1993. С. 177) и франц. пер. Г. Барди (SC. 41. P. 40), говорящие об «улучшениях» или «реформах» Пантена, некорректны; см.: Neymeyr. 1989. S. 43; Le Boulluec. 1999. P. 12) и что его преемником в этом руководстве стал К. А., а также нек-рые др. сведения о Пантене, восходящие исключительно к повествованию еп. Евсевия Кесарийского (Euseb. Hist. eccl. V 10; VI 6). Вероятно, похожие сведения содержались и в утраченном сочинении сщмч. Памфила и еп. Евсевия Кесарийского «Апология Оригена» (Apologia pro Origene; CPG, N 3476), на к-рое ссылается свт. Фотий, патриарх К-польский (Phot. Bibl. 118). Мн. ученые ставили под сомнение достоверность как этих сообщений, так и более позднего рассказа о Пантене блж. Иеронима, к-рый повторяет сведения еп. Евсевия Кесарийского, однако дополняет их упоминанием о принадлежавших Пантену «многих толкованиях Священного Писания» (Hieron. De vir. illustr. 36); никаких следов существования таких текстов не сохранилось (критический анализ сведений о Пантене см.: Zahn. 1884. S. 77, 164-165; Bardy. 1937. P. 67-78; Nautin. 1953; Сидоров. 1998. С. 60-62).
Интерпретации отношения К. А. к Пантену и учительной деятельности Пантена и К. А. в Александрии всецело обусловлены избираемыми исследователями путями решения 2 принципиальных проблем, связанных с ранней историей Александрийской школы. Эти проблемы обсуждались в научных дискуссиях в XIX-XX вв. и до наст. времени остаются предметом споров (обзор см.: Hoek. 1997. P. 61-79; Jakab. 2001. P. 91-106; Itter. 2009. P. 7-15). Первая проблема задается наличием 2 противоречащих друг другу перечней первых дидаскалов Александрийской школы; 1-й перечень восходит к еп. Евсевию Кесарийскому, а 2-й основывается на свидетельстве Филиппа Сидского. Вторая проблема имеет фундаментальный характер и предполагает рассмотрение вопроса о том, существовала ли вообще до Оригена Александрийская школа в качестве особого учреждения Александрийской Церкви.
В процессе поиска решений первой проблемы среди исследователей сформировались 2 направления: представители 1-го направления следуют еп. Евсевию Кесарийскому и отвергают свидетельство Филиппа Сидского как противоречивое, исторически ненадежное и ошибочное (см., напр.: Le Boulluec. 1999. P. 22-23); представители 2-го направления используют свидетельство Филиппа для демонстрации сомнительности всех или нек-рых сведений еп. Евсевия и предлагают различные варианты «альтернативной» истории Александрийской школы и ее первых дидаскалов. Согласно принимаемой сторонниками первого направления традиц. 1-й версии, представленной в «Церковной истории» еп. Евсевия, а также в ее лат. переводе Руфина и у блж. Иеронима, в Александрии, «по древнему обычаю», со времени появления здесь христиан существовало «училище», в к-ром преподавалось Свящ. Писание (Euseb. Hist. eccl. V 10. 1). Блж. Иероним свидетельствует, что церковные учители (ecclesiastici doctores) действовали в Александрии «со времен евангелиста Марка», к-рый, согласно церковной традиции, был первым предстоятелем Александрийской Церкви (Hieron. De vir. illustr. 36). Еп. Евсевий не приводит имен александрийских дидаскалов до Пантена; традиционно это объясняется тем, что в ранний период существования Александрийской Церкви обязанности учителей выполняли местные епископы (см., напр.: Дмитриевский. 1884. С. 8-11). В лат. переводе «Церковной истории» проблема раннего преемства решается с помощью сомнительного утверждения, что «первым после апостолов» (primus post apostolos) дидаскалом в Александрии был Пантен, «вторым по порядку» - К. А., третьим - «Ориген, ученик Климента» (Eusebius. Die Kirchengeschichte. 1908. Bd. 2. S. 537). Согласно 2-й версии, содержащейся в свидетельстве Филиппа Сидского, «Александрийским училищем первым управлял Афинагор»; его «расцвет» и время написания им соч. «Предстательство за христиан» неверно датируются в этом свидетельстве временем правления римских императоров Публия Элия Траяна Адриана (117-138) и Антонина Пия (138-161), которые названы адресатами сочинения; вероятно, здесь имеет место ошибка компилятора или переписчика (Aus Philippos von Side // Theodoros Anagnostes. Kirchengeschichte. 1995. S. 160; см.: Сагарда. 1917. С. 105-106; Pouderon. 1997. P. 30-31). По утверждению Филиппа, Афинагор до обращения в христианство «стоял во главе академической школы» (τῆς ᾿Ακαδημαϊκῆς σχολῆς προϊστάμενος), т. е. был платоником; он собирался написать сочинение против христиан, однако в процессе изучения христ. лит-ры сам обратился в христианство. Учеником и преемником Афинагора в руководстве школой Филипп называет К. А., преемником К. А.- Пантена, «афинянина и пифагорейского философа», а преемником Пантена - Оригена. Кроме того, Филипп сообщает, что сам он учился у последнего дидаскала Александрийской школы Родона, который по неизвестным причинам в правление визант. имп. Феодосия I Великого (379-395), вероятнее всего в нач. 90-х гг. IV в., перенес школу в Сиды, родной город Филиппа (Aus Philippos von Side // Theodoros Anagnostes. Kirchengeschichte. 1995. S. 160). Хотя уже в древности Сократ Схоластик и свт. Фотий, патриарх К-польский, характеризовали Филиппа как автора напыщенного, многословного и «сливающего времена истории» (см.: Socr. Schol. Hist. eccl. VII 27; Phot. Bibl. 35), сообщаемые им сведения не могут быть отброшены как заведомо недостоверные и заслуживают внимательного анализа вслед. того, что он был непосредственно знаком с последним дидаскалом Александрийской школы. А. И. Сагарда, пытаясь совместить данные еп. Евсевия и Филиппа, полагал, что сведения о К. А. и Пантене оказались искажены из-за невнимательности переписчиков и в действительности Филипп хотел сказать, что учителем К. А. помимо Афинагора был также и Пантен, однако не относил Пантена к числу дидаскалов Александрийской школы, предлагая ряд Афинагор - К. А.- Ориген (Сагарда. 1917. С. 104-105). Кроме того, по мнению Сагарды, Филипп безосновательно перенес Афинагора в Александрию, тогда как в действительности К. А. учился у него в Афинах, а в Александрии учился у Пантена (Там же. С. 106). Др. объяснение свидетельства Филиппа было предложено в совр. зап. науке Б. Пудроном. По его предположению, Афинагор был не первым, а последним учителем К. А.; его, а не Пантена К. А. назвал «сицилийской пчелой» и с ним встретился в Александрии, где, согласно гипотезе Пудрона, Афинагор провел последний период жизни во 2-й пол. 70-х - нач. 80-х гг. II в. (см.: Pouderon. 1997. P. 39-40). В случае принятия этой гипотезы сообщение о том, что Пантен был учеником К. А., может быть объяснено тем, что в действительности они оба были учениками Афинагора, однако для создания школьного преемства историкам требовалось нек-рым образом упорядочить их. Из «Церковной истории» еп. Евсевия и сообщений визант. хронистов следует, что К. А. и Пантен жили и учили в Александрии в одно и то же время. Возможно, Пантен учился у Афинагора и обратился в христианство раньше К. А., к-рый познакомился с Пантеном уже после прибытия в Александрию и в течение некоторого времени посещал его беседы после смерти Афинагора, вслед. чего и называл его учителем. Наиболее серьезным возражением против этой гипотезы является указание на отсутствие в сочинениях К. А., Оригена и др. представителей Александрийской школы каких-либо упоминаний об Афинагоре и цитат из его сочинений; еп. Евсевий в «Церковной истории» также вовсе не упоминает о нем. Вместе с тем с доктринальной т. зр. серьезных разногласий между богословским учением Афинагора и взглядами К. А. нет; более того, в нек-рых вопросах, напр. в оценке учения греч. философов о Боге, их мнения весьма близки. Наряду с попытками примирить и согласовать сообщения еп. Евсевия и Филиппа в совр. науке существует и более радикальная позиция, сторонники к-рой полагают, что противоречивость сообщений о первых александрийских дидаскалах обусловлена отсутствием у древних церковных историков к.-л. надежных сведений об Александрийской школе до времени преподавания в ней Оригена. По мнению ряда исследователей, еп. Евсевий и Филипп в разной форме, но одинаково некорректно экстраполировали имевшиеся у них сведения об Александрийской школе при Оригене и последующих дидаскалах на предшествующий исторический период и т. о. создали фиктивное преемство дидаскалов до Оригена. Тем самым противоречивость источников и недостаток фактической информации подводят к вопросу о статусе Пантена и К. А. как христ. учителей, о природе и содержании их учительной деятельности в Александрии и об отношении их к местным церковным властям.
Предложенные в совр. науке решения задаваемой этими вопросами второй проблемы истории Александрийской школы могут быть обобщены в виде 3 основных гипотез. Сторонники традиц. 1-й гипотезы полагают, что все свидетельства еп. Евсевия об Александрийской школе являются заслуживающими доверия, и утверждают, что александрийские дидаскалы были подчинены местным церковным властям, т. е. Александрийским епископам, и исполняли церковное служение учителей, катехизаторов и толкователей Свящ. Писания в рамках специального церковного учреждения (см., напр.: Дмитриевский. 1884; Дьяконов. 1913. С. 499-517; Quasten. Patrology. Vol. 2. P. 4-5). В уточненном и усложненном виде эта гипотеза была представлена Ф. Периколи Ридольфини, согласно к-рому в Александрийской Церкви с древних времен действовала «катехизическо-экзегетическая» школа, по типу близкая к современным ей иудейским школам, в к-рой первоначально велось преподавание Свящ. Писания и основ вероучения. При Пантене, к-рый до обращения в христианство был философом и желал предоставить своим ученикам средства для полемики с гностицизмом и язычеством, в школе было введено критическое преподавание языческой философии; продолжателями этой тенденции стали К. А. и Ориген. Хотя для обозначения школы еп. Евсевий использует различные названия: «училище священных слов», т. е. Свящ. Писания (τὸ τῶν ἱερῶν λόγῶν διδασκαλεῖον), «Александрийское училище» (κατ᾿ ᾿Αλεξάνδρειαν διδασκαλεῖον), «Александрийская катехеза» (κατ᾿ ᾿Αλεξάνδρειαν κατήχησις), «обучение верующих» (ἡ τῶν πιστῶν διατριβή), согласно Периколи Ридольфини, все эти наименования тождественны по своему смыслу и указывают на одно учреждение (см.: Pericoli Ridolfini. 1962. P. 227-230; ср.: Сидоров. 1998. P. 58; перечень употребляемых еп. Евсевием обозначений см.: Hoek. 1997. P. 75). Первая гипотеза является хорошо обоснованной текстами еп. Евсевия, внутренне убедительной и согласующейся с церковно-исторической традицией, однако она сталкивается со сложностями при определении состава слушателей Александрийского училища и его назначения. При соотнесении этой гипотезы со сведениями о школе, сообщаемыми еп. Евсевием, ее членами оказываются одновременно и интересующиеся христианством язычники, и готовящиеся к крещению новообращенные, и изучающие Свящ. Писание опытные члены христ. общины. Сложно представить, что все эти различные по запросам и уровню подготовки группы лиц совместно посещали некое «училище» (подробную критику представления о ранней Александрийской школе как об особом учреждении с указанием основной лит-ры по теме до сер. XX в. см.: Knauber. 1951. S. 244-247). Попытка снятия этой сложности была предпринята К. Шолтеном, к-рый, опираясь на мнения ряда нем. ученых XIX - нач. XX в., заявлял, что представление о связи Александрийской школы с подготовкой к крещению является ошибочным; эта школа была не огласительным училищем, а «высшей богословской школой того времени», занятия в к-рой были сосредоточены вокруг библейской экзегезы еще до Оригена (Scholten. 1995. P. 36-37; ср.: Hoek. 1997. P. 66). Однако существование специального церковного учреждения, предназначением к-рого являлись изучение теоретического богословия и экзегеза Свящ. Писания, маловероятно для кон. II в., а попытки некритического перенесения на Александрийскую школу сведений о процессе преподавания Оригена в Кесарии Палестинской, заимствуемых из «Похвального слова в честь Оригена» (CPG, N 1763) свт. Григория Чудотворца (наиболее показательный пример: Дьяконов. 1913), ничем не оправданы и неисторичны (Stählin. 1934. S. 12). Специфика сочинений К. А. также не позволяет считать его исключительно богословом-теоретиком или экзегетом.
Критическая 2-я гипотеза, противоположная 1-й, была развита в 1-й пол. XX в. франц. ученым Г. Барди, ориентировавшимся на методы нем. школы исторической критики. По его мнению, как предлагаемые еп. Евсевием Кесарийским, так и представленные в свидетельстве Филиппа Сидского сведения об Александрийской школе до начала деятельности Оригена являются ненадежными и по большей части вымышленными (см.: Bardy. 1937. P. 68-69, 78-79; Idem. 1942. P. 81-84; ср.: Munck. 1933. P. 185; Neymeyr. 1989. S. 44-45). Александрийское училище либо вообще не существовало как церковное учреждение до Оригена, либо, если оно существовало, его возглавляли и преподавали в нем местные епископы и священнослужители, а не Пантен и К. А., к-рые были «изолированными индивидами» и не принадлежали ни к какой школьной традиции (Bardy. 1937. P. 82, 90; Idem. 1942. P. 84). Радикализированная версия этой гипотезы была предложена в отечественной лит-ре Афонасиным (Афонасин. 2003), к-рый повторил и заострил тезисы Р. ван ден Брука (Broek. 1995). Согласно Афонасину, сведения еп. Евсевия Кесарийского о школе в Александрии «столь произвольны, что не заслуживают критики»; К. А. в рамках этой гипотезы объявляется представителем традиции «индивидуального наставничества». Пресвитеры или дидаскалы, к к-рым относился К. А., играли важную роль в церковной жизни, однако часто действовали «вопреки политике официальных лиц», что могло приводить к конфликтам с церковной администрацией (Афонасин. 2003. С. 17; ср.: Broek. 1995. P. 42-43). Сопоставляя К. А. с «учителями гносиса» (см. в ст. Гностицизм), Афонасин подчеркивает, что К. А., Ориген и подобные им христ. наставники были «харизматическими лидерами, которые воспринимали свое дело как продолжение миссии апостолов», что они «были частными лицами и не принадлежали... к официальным церковным структурам» (Афонасин. 2003. С. 9, 18-19). Акцентируемое в рамках 2-й гипотезы указание на то, что К. А. возводил традицию церковного учительства через пресвитеров к апостолам и был убежденным сторонником индивидуального миссионерства, является корректным и важным, однако явно или скрыто вводимое приверженцами этой гипотезы противопоставление К. А. и др. дидаскалов офиц. представителям правосл. Александрийской Церкви этого времени и христ. церковной общине неубедительно и не находит к.-л. подтверждений в источниках (см., напр., критический обзор А. Меа: Méhat. 1966. P. 62-65). Содержание сочинений К. А. демонстрирует, что он считал себя членом единой истинной христ. Церкви, признавал церковную иерархию и церковные таинства (см., напр.: Clem. Alex. Paed. III 12. 97. 2; I 4. 10. 2; I 6. 42. 1-2; Strom. VII 1. 3. 3; VI 13. 107. 2; I 1. 5. 1); в его произведениях нет прямых критических высказываний в адрес официальных церковных структур, епископов или священнослужителей (см.: Le Boulluec. 1999. P. 17-20). Между христианскими учителями и представителями церковной иерархии действительно могли возникать конфликты, как об этом свидетельствует биография Оригена, однако во II в. такие конфликты были вызваны по большей части не различной трактовкой христ. учения, при изложении к-рого допускалась значительная свобода, а внешними обстоятельствами и личными отношениями. Сторонники 2-й гипотезы указывают на то, что сочинения К. А. свидетельствуют об отсутствии у него устойчивого интереса к предкрещальной катехизации, к начальному обучению новокрещеных истинам веры и к библейской экзегезе (Bardy. 1937. P. 82-83), однако более внимательный анализ жанровых особенностей и содержания текстов К. А. демонстрирует безосновательность и ошибочность этого мнения (см.: Méhat. 1966. P. 66-68; Hoek. 1997. P. 61-79; Wyrwa. 2005. S. 297-298).
Формирование 3-й гипотезы, поддерживаемой в неск. близких друг к другу вариантах большинством совр. специалистов по истории древней христ. Церкви и раннехрист. лит-ры (см., напр.: Knauber. 1951; Méhat. 1966. P. 62-70; Tuilier. 1982; Hoek. 1997; Le Boulluec. 1999; Wyrwa. 2005), было вызвано, с одной стороны, признанием того, что 1-я гипотеза содержит нек-рые неисторические идеализации, допущения и обобщения, а с др. стороны, стремлением опровергнуть радикальные выводы 2-й гипотезы. Наиболее основательная и последовательная версия 3-й гипотезы была предложена в кон. XX в. А. ван ден Хук (Hoek. 1997). По ее мнению, используемое еп. Евсевием слово «училище» (διδασκαλεῖον) и др. синонимичные ему выражения применительно к ранней истории Александрийской Церкви следует понимать как указания на существование устойчивой традиции церковного научения, а не «школы» в смысле институализированного церковного учреждения (Ibid. P. 61-65). Говоря о деятельности К. А. и Оригена, еп. Евсевий неоднократно употребляет также выражение «катехеза» (κατήχησις; см., напр.: Euseb. Hist. eccl. VI 6; об истории понятия см.: Turck. 1963). Это слово в различных формах часто встречается в сочинениях К. А. (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 25. 3; I 6. 36. 2-3; Strom. I 1. 1. 3; V 10. 66. 2; VI 11. 89. 1-3; VII 9. 52. 1-2; Protrept. 10. 96. 2; Eclog. proph. 28), причем именно у него оно впервые приобретает наряду с общим также и специальное значение научения, связанного с крещением, и употребляется в соответствующих контекстах (Méhat. 1966. P. 66-69; Hoek. 1997. P. 67-69; Lampe. Lexicon. P. 733). Весьма показательным в этом отношении является рассуждение К. А. в 1-й кн. «Педагога»: «Все наши грехи [в крещении] омываются, и тотчас же мы перестаем ходить путями зла. Итак, подлинная благодать просвещения состоит в том, что наш способ бытия (τὸν τρόπον) уже является не таким, каким был прежде. Но поскольку одновременно с просвещением возрастает в нас свет гносиса и озаряет наш ум, то мы, будучи прежде неучеными, тотчас называемся учениками, как если бы нам уже прежде дано было научение; однако нельзя определить с точностью, в какое время. Ибо катехизическое научение только подводит к вере (κατήχησις εἰς πίστιν περιάγει); вера же получает наставление уже в самом крещении от Духа Святого» (Clem. Alex. Paed. I 6. 30. 1-2). Согласно Хук, интерпретация учительной деятельности первых александрийских дидаскалов как катехезы, неразрывно связанной с церковным крещением, позволяет непротиворечиво объяснить повествование еп. Евсевия и преодолеть его неточности. «Александрийская школа» в этом случае оказывается устойчивой традицией длительной катехизации язычников, обращающихся в христианство (но не детей христиан, как ошибочно утверждает К. Морескини, т. к. за их наставление в вере отвечали христ. родители; ср.: Морескини. 2011. С. 121). Этой катехизацией по поручению епископов занимались «дидаскалы», т. е. опытные христиане, хорошо знавшие как мирские науки, что позволяло им на равных вести беседы с образованными язычниками, так и церковное учение; они могли быть как мирянами, так и священниками. Составные элементы александрийской катехизической практики могут быть воссозданы на основании состава корпуса сочинений К. А. Правомерность такой реконструкции подтверждается свидетельством Оригена (сохранилось только в лат. переводе), к-рое отражает уже сложившуюся к его времени александрийскую традицию катехезы: «Не тотчас в начале следует преподавать ученикам (discipulis) глубокие и сокровенные таинства, но сперва должны преподаваться им исправление образа жизни, улучшение нравов, первые начатки религиозного поведения и простой веры» (Orig. In Iudic. hom. 5. 6; ср.: Idem. Contr. Cels. III 51). Опираясь на имеющиеся источники, можно восстановить 3 основных этапа александрийской катехезы, существовавшие во время К. А. Начальным этапом было разъяснение заблуждений язычества и указание на то, каким образом они преодолеваются в христианстве; этому этапу соответствует «Увещевание к язычникам» К. А. Вероятно, на этом этапе происходило также краткое обсуждение философских учений и сопоставление их содержания с вероучением христианства. Убежденный в истинности христ. проповеди человек готовился к принятию крещения; в ходе дальнейшей катехезы, непосредственно предшествующей крещению или следующей сразу за ним, катехизируемому предлагалось разъяснение нравственного значения крещения и принципов новой жизни в Церкви (1-я кн. «Педагога» К. А.), а также преподавалось христ. морально-практическое учение (2-я и 3-я книги «Педагога»). После этого дидаскал знакомил вступающего в Церковь со священными текстами (книгами Свящ. Писания или отрывками из них), предлагая краткое богословско-практическое толкование в соответствии с церковным Преданием и опровергая наиболее опасные для веры еретические трактовки; этому этапу соответствуют «Очерки» К. А. Дальнейшее наставление было уже обязанностью епископа и пресвитеров, вводивших новообращенного в литургическую жизнь Церкви, а также подробно изъяснявших Свящ. Писание и истины веры в проповедях (см.: Knauber. 1985. P. 183-184). По замечанию А. Кнаубера, К. А. как церковный учитель «занимался не теологической спекуляцией или научной апологетикой, но миссионерско-катехизаторской работой, ориентированной на реальных лиц из его языческого и философского окружения» (Idem. 1951. S. 260), вслед. чего справедливо говорить не о «катехизической школе» (Katechetenschule), но о «школьном катехуменате» (Schulkatechumenat), т. е. о методе и практике христ. научения, целью к-рого являлось обеспечение гармоничного постепенного вхождения новообращенных из язычников в христ. общину (Ibid. S. 266). Пантен и К. А. были наиболее известными александрийскими учителями 2-й пол. II в., осуществлявшими такую катехезу; при этом нельзя исключать, что были и др. учителя, сведения о к-рых не сохранились. Выполняя важную церковную функцию, христ. дидаскалы были тесно связаны с местной христ. общиной и действовали в согласии с ее предстоятелями (Tuilier. 1982. P. 740; Hoek. 1997. P. 71-74). При этом их церковное служение катехизаторов никак не мешало им быть в то же время свободными христ. проповедниками-миссионерами, обращавшимися с проповедью к язычникам, т. е. продолжателями дела апостолов, а также руководителями философско-богословских кружков, групп «любителей мудрости», или, согласно терминологии К. А., христ. «гностиков» (ср.: Neymeyr. 1989. S. 93-95; Fürst. 2011. S. 69). К. А., как, вероятно, и Пантен, всегда оставался христ. философом, уверенным в полезности знания, и в силу этого прилагал значительные усилия к рациональному осмыслению религ. содержания христианства, к соотнесению христ. истин с учениями философов и мудрецов. Т. о., церковное и личное учительство первых александрийских дидаскалов были не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга сферами деятельности; это совмещение отражено в «Строматах», где К. А. представил собственный цельный опыт церковного учителя и христ. философа, не отделяя первое от второго.
Признавая историческую достоверность основного содержания повествований еп. Евсевия Кесарийского о ранней Александрийской школе, мн. сторонники 3-й гипотезы вместе с тем отмечают, что желание еп. Евсевия построить идеальное «школьное преемство» привело к созданию неточной картины отношений между Пантеном, К. А. и Оригеном, которая у последующих интерпретаторов «Церковной истории» подверглась дальнейшим искажениям. Искусственная проблема преемства между Пантеном и К. А. в рамках 3-й гипотезы снимается: т. к. К. А. и Пантен не были руководителями Александрийской школы как учреждения, они могли действовать в Александрии одновременно, исполняя обязанности катехизаторов и имея наряду с этим группы собственных учеников. К. А. уважительно относился к Пантену и вполне мог называть себя его учеником, однако, вопреки мнению еп. Евсевия, это было лишь выражением их личных отношений и проявлением почтения К. А. к старшему собрату, а не свидетельством формального школьного преемства. С опорой на 3-ю гипотезу может быть прояснен и вызывавший многочисленные споры ученых вопрос об отношении К. А. к Оригену. Сообщение еп. Евсевия о том, что Ориген был учеником и преемником К. А. (Euseb. Hist. eccl. VI 6), справедливо лишь в том смысле, что Ориген первоначально следовал той же традиции церковной катехезы, и не означает, что Ориген учился у К. А. Хотя нельзя полностью исключать того, что Ориген встречался с К. А. и слушал его беседы, «будучи еще юношей» (ср.: Phot. Bibl. 118), тексты Оригена не дают оснований считать К. А. его учителем в области христ. философии, богословия или экзегетики, т. к. в сохранившихся сочинениях Оригена не встречаются ни упоминания имени К. А., ни цитаты из его произведений, ни однозначно интерпретируемые идейные заимствования. Предпринятая Хук попытка выделения всех терминологических и идейных параллелей подтверждает принадлежность К. А. и Оригена к одной культурной и образовательной традиции, однако не доказывает прямой зависимости Оригена от К. А. (см.: Hoek. 1992). Происходя из христ. семьи, Ориген не имел нужды в церковной катехизации со стороны К. А. Начальное христ. образование он получил от отца (Euseb. Hist. eccl. VI 2. 7-10); его учителем в области философии был не К. А., а Аммоний Саккас (Ibid. 19. 5-10). Даже в письме Александру, еп. Иерусалимскому, лично знавшему и почитавшему К. А., Ориген, приводя пример Пантена как церковного дидаскала, который рассматривал философские и еретические учения, умалчивает о К. А., хотя тот делал то же самое; при этом в ответном письме еп. Александра К. А. упоминается (Ibid. 19. 12-13; 14. 8-9; приводящий письмо Оригена еп. Евсевий не называет адресата; атрибуция произведена и обоснована П. Нотеном: Nautin. 1961. P. 126-134). В качестве своего рода дани памяти К. А. некоторые исследователи предлагали воспринимать созданное Оригеном в 20-х гг. II в. соч. «Строматы» (Stromata; CPG, N 1483; относительно датировки и предполагаемого содержания см.: Nautin. 1977. P. 293-302). Для подтверждения этого мнения используется свидетельство блж. Иеронима, по словам которого Ориген, «подражая» (imitatus) К. А., написал 10 книг «Стромат», в которых «сравнивал между собой высказывания христиан и философов и подтверждал все догматы нашей религии ссылками на Платона и Аристотеля, Нумения и Корнута» (Hieron. Ep. 70. 4). От сочинения осталось лишь неск. кратких фрагментов у блж. Иеронима и в катенах; все они имеют экзегетический характер и не содержат упоминаний о «философах», поэтому неизвестно, насколько справедливой является оценка блж. Иеронима и был ли трактат Оригена связан с одноименным сочинением К. А. Т. о., имеющиеся источники не дают весомых оснований для предположения о существовании личных или идейных связей между К. А. и Оригеном; вместе с тем вслед. неполноты сохранившихся корпусов сочинений К. А. и Оригена вынесение окончательного суждения по этому вопросу невозможно (Fürst. 2011. S. 70).
Деятельность К. А. как церковного катехизатора и христ. философа в Александрии во многом определялась спецификой этого города, ставшего ко II в. важнейшим торговым, культурным и религ. центром греко-рим. мира (см. в ст. Александрия). По разным подсчетам, население Александрии в I-II вв. составляло от нескольких сот тысяч до миллиона человек (см.: Jakab. 2001. P. 23-24); как по этническому, так и по религ. составу оно отличалось чрезвычайным многообразием. Наряду с традиц. греч., рим. и егип. религиями, а также иудаизмом в Александрии были представлены различные вост. культы, здесь вели проповедь многочисленные мистики и аскеты, существовали гностические группы и секты (см. в ст. Гностицизм). Средоточием научной и учебной жизни Александрии был Мусейон, в школах и б-ке к-рого работали и проводили занятия с учениками мн. прославленные философы и ученые. Получив в Александрии доступ ко всему богатству эллинистической культуры и науки, К. А. стал активно изучать религ., философские и научные сочинения языческих писателей и применять приобретенные знания для дела христ. проповеди. Тексты основных сочинений К. А., к-рые он создавал во время жизни в Александрии, свидетельствуют о его внимательности и чуткости к различным культурным и религ. явлениям (см.: Stählin. 1934. S. 13-19; Hoek. 1990. P. 182-191; Le Boulluec. 1999. P. 13-36; Idem. 2003. S. 583-600). Желая говорить с каждым человеком на его культурном языке и отличаясь природной любознательностью, К. А. изучал в Александрии не только греч. лит-ру и философию, осведомленность в к-рых вводила его в круг александрийской интеллектуальной элиты, но и егип. мифологию, историю и культуру. Внимание К. А. к егип. верованиям и культурным особенностям отразилось в его сочинениях; так, напр., он предлагает перечень животных, которым поклоняются жители егип. городов (Clem. Alex. Protrept. 2. 39. 5; 2. 41. 3-4), подробно описывает егип. ритуальное шествие (Idem. Strom. VI 4. 35-37), говорит о 3 типах егип. знаков, что подтверждает знание им егип. письменности (Ibid. V 4. 20-21), и т. п. (см.: Братухин. 2006. С. 43-45). О желании К. А. найти положительные стороны в религ. воззрениях египтян свидетельствует предлагаемая им в «Увещевании к язычникам» оценка егип. обожествления животных. По словам К. А., боги египтян, будучи животными, следуют природе; в этом отношении они нравственно выше, чем боги эллинов, к-рым мифографы приписали множество постыдных и противоестественных поступков (Clem. Alex. Protrept. 2. 39. 4, 6). Похвалы К. А. в адрес егип. мудрости (см., напр.: Strom. V 5. 28. 6; VI 2. 27. 2) разительно отличаются от оценок др. раннехрист. писателей, бывших представителями классической греч. культуры и не связанных с Египтом (напр., апологет Аристид называл египтян более глупыми и безрассудными, чем эллины, и утверждал, что их заблуждение хуже заблуждений всех народов; см.: Aristid. Apol. 12). Иудеи, составлявшие в отдельные периоды ок. трети населения Александрии, к кон. II в. в большинстве своем были вынуждены покинуть город по политическим причинам (см.: Jakab. 2001. P. 24-34). Иудейская община во время жизни К. А. в Александрии была немногочисленной, чем объясняется отсутствие в его сочинениях упоминаний о беседах или полемике с иудейскими учителями. Вместе с тем культурное влияние иудаизма в Александрии оставалось достаточно сильным; занимаясь изучением Свящ. Писания, К. А. не мог не сталкиваться с достижениями школы александрийской иудейской библеистики. Именно в Александрии К. А. познакомился с традицией эллинизированного иудаизма и с сочинениями Филона Александрийского, оказавшими важнейшее влияние на формирование используемых им методов библейской экзегезы (см.: Hoek. 1988; ср.: Eadem. 1990. P. 185-186; Le Boulluec. 2003. S. 593-594). Содержание «Стромат» свидетельствует, что в Александрии К. А. встречался и вел полемику с гностическими учителями; он передает и критикует воззрения гностиков Маркиона, Карпократа, Епифана, Валентина, Василида, Исидора и др. (ср.: Hoek. 1990. P. 188-189). Как в полемике с язычниками, так и в полемике с представителями христ. и псевдохрист. гностических течений К. А. сохранял терпимость и благожелательность; хотя его критика могла быть весьма жесткой и насмешливой, она никогда не переходила в тотальное осуждение всей нехрист. культуры. Осознавая необходимость и пользу религ. диалога, К. А. не отвергал целиком чуждые христианству системы религ. взглядов, но стремился переосмыслить их и найти в них такие элементы, к-рые позволили бы ему предложить находящимся вне христианства, но проявляющим интерес к христ. учению жителям Александрии пути постепенного восхождения к полноте христ. истины. Особенности Александрии как важнейшего торгового центра Средиземноморья, по-видимому, накладывали определенный отпечаток и на местную христ. Церковь, мн. члены к-рой были людьми состоятельными и имели высокое положение в обществе. Хотя исторических свидетельств о социальном составе и религ. особенностях александрийской христианской общины в кон. II - нач. III в. крайне мало, исследователи, опираясь в т. ч. и на сочинения К. А., полагают, что александрийское христианство было весьма неоднородным (см.: Jakab. 2001. P. 63-89, 215-315; Le Boulluec. 2003. S. 589-593). Как христ. учитель К. А. вынужден был вести постоянную дискуссию и с религ. синкретизмом и индифферентностью новообращенных богатых христиан, для к-рых христианство нередко оказывалось лишь модной экзотической формой богопочитания, и с иррационалистическим фанатизмом христ. аскетов и мистиков, не оставлявших места для самостоятельного интеллектуального и культурного развития христианина, и с утонченным гностическим интеллектуализмом, лишавшим христианство его практической моральной силы и общинной природы.
До нач. XX в. в лит-ре было широко распространено мнение о том, что во время пребывания в Александрии К. А. был рукоположен в священнический сан; считалось, что это произошло до написания им соч. «Педагог», т. е. в кон. 80-х - нач. 90-х гг. II в. В качестве обоснования этого утверждения приводилось место из «Педагога»: «...если мы, предводители церквей, есть пастыри (ποιμένες ἐσμὲν) по образу Доброго Пастыря, а вы - овцы (τὰ δὲ πρόβατα ὑμεῖς)...» (Clem. Alex. Paed. I 6. 37. 3). «Вы» во 2-й части предложения является эмендацией и заменяет стоящее в рукописи «мы» (ἡμεῖς); впервые такое чтение появилось в изданиях XVII в. и традиционно обосновывается тем, что двойное «мы» делает фразу неясной (сторонники этого чтения есть и ныне; см.: Hoek. 1997. P. 78). Нем. филолог О. Штелин (1868-1949) в критическом издании сочинений К. А. отказался от этой эмендации и предложил другую, заменив «есть» (ἐσμὲν) вводящей противопоставление частицей μὲν и сохранив рукописное «мы», в результате чего смысл фразы изменился: «...если предводители церквей [являются] пастырями... а мы - овцами...». Х. Кох, опираясь на чтение Штелина, заметил, что место из «Педагога» не может более рассматриваться как подтверждение священства К. А., и предпринял попытку обоснования гипотезы, что К. А. вообще не был священником (Koch. 1921). Оспорившие его мнение Ф. Кватембер и Меа, признавая, что контекстуально эмендация Штелина выглядит более предпочтительной, чем иные чтения, указывали, что, хотя в исправленном виде место из «Педагога» не может служить подтверждением священства К. А., оно не может использоваться и для опровержения мнения о его священстве, поскольку в контексте К. А. говорит «мы», отождествляя себя с проходящими катехизацию; кроме того, под «предводителями церквей» он мог понимать епископов (Quatember. 1946. P. 14-17; Méhat. 1966. P. 55). Т. о., вопрос о священстве К. А. должен решаться без учета цитаты из «Педагога». Основным аргументом в пользу того, что К. А. был священником, являются упоминания о нем как о пресвитере в письме сщмч. Александра, еп. Иерусалимского, Антиохийской Церкви (μακάριος πρεσβύτερος; блаженный пресвитер; см.: Euseb. Hist. eccl. VI 11. 6), у блж. Иеронима (Alexandrinae ecclesiae presbyter; пресвитер Александрийской Церкви; Hieron. De vir. illustr. 38; Idem. Ep. 70. 4), в «Библиотеке» свт. Фотия, патриарха К-польского (πρεσβύτερος ᾿Αλεξανδρείας/᾿Αλεξανδρεύς; пресвитер Александрийский; 2 раза, в т. ч. при цитировании заглавия «Стромат», что указывает на более раннюю традицию; Phot. Bibl. 109), и в сочинениях др. церковных писателей. Отвергающие священство К. А. исследователи полагают, что во всех этих случаях слово «пресвитер» употребляется в общем значении «уважаемый старец», а не в специальном церковном значении «рукоположенный священник». Как в «Церковной истории» еп. Евсевия Кесарийского, так и в сочинениях самого К. А. имеется достаточно случаев употребления слова «пресвитер» в обоих значениях (обзор см.: Neymeyr. 1997); вместе с тем, учитывая офиц. характер письма сщмч. Александра, представляющего К. А. как своего посланника, значение «священник» является в данном случае более вероятным и логичным (Méhat. 1966. P. 55; ср.: Nautin. 1961. P. 117-118). Рассуждения отвергающих священство К. А. ученых о том, что упоминание пресвитерства без упоминания Церкви, пресвитером к-рой является некто, свидетельствует об употреблении слова «пресвитер» в общем неопределенном значении (см.: Koch. 1921. S. 45-48), основаны на произвольном создании не существовавшей в реальности традиции и в силу этого неубедительны (Quatember. 1946. P. 16). О К. А. как о священнике прямо говорится в «Пасхальной хронике» (Chronicon Paschale, VII в.), где он упоминается в связи с соч. «О Пасхе» и называется «благочестивейшим священником Церкви александрийцев (ὁσιώτατος τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας ἱερεύς)» (Chron. Pasch. 1832. Vol. 1. P. 14). Несмотря на позднюю датировку «Хроники», информация о священстве К. А. заслуживает доверия, т. к. она могла быть заимствована из трактата К. А. «О Пасхе» или из исторических сочинений Юлия Африкана, к-рыми пользовался составитель хроники. Т. о., вероятнее всего, К. А. действительно был рукоположен в священный сан, однако, произошло ли это в Александрии или уже после его удаления оттуда, определить на основании имеющихся источников невозможно (различные гипотезы см.: Osborn. 1957. P. 4; Neymeyr. 1989. P. 47-49; Hoek. 1997. P. 77-79).
Последние годы жизни
Датировка отъезда К. А. из Александрии дается на основании косвенного свидетельства еп. Евсевия Кесарийского, сообщающего, что 18-летний Ориген возглавил катехизическую деятельность в Александрии во время гонения на христиан при имп. Септимии Севере, поскольку в городе «не оказалось никого, кто мог бы нести обязанности оглашателя» (Euseb. Hist. eccl. VI 3. 1, 3; ср.: Ibid. VI 6. 1). В том случае, если удаление К. А. из Александрии было действительно связано с началом гонений Септимия Севера, оно произошло ок. 202-203 гг. Вместе с тем, по мнению Д. Вирвы, если бы К. А. бежал из Александрии из-за гонений, он впосл. вернулся бы в город с еп. Димитрием и проч. александрийским клиром; это позволяет предполагать, что причина отъезда могла быть иной. Мнение, что отъезд К. А. был вызван конфликтом между ним и еп. Димитрием, аналогичным позднейшему конфликту, связанному с деятельностью Оригена (см.: Nautin. 1961. P. 140; Wyrwa. 2005. S. 299), не имеет подтверждения в источниках и является лишь смелой гипотезой (ср.: Le Boulluec. 2003. S. 587-588). Более вероятным является предположение, что во время гонений К. А. оставил Александрию и отправился к своему ученику сщмч. Александру, к-рый в нач. III в. стал епископом одного из городов Каппадокии (Euseb. Hist. eccl. VI 11. 1-2). Возможно, именно по настоянию сщмч. Александра К. А. не стал возвращаться в Александрию, а остался с ним, помогая ему в церковных трудах. По свидетельству еп. Евсевия Кесарийского, по просьбе сщмч. Александра К. А. написал несохранившееся соч. «Канон церковный, или Против иудействующих» (Ibid. 13. 3); исследователи предполагают, что инициатором создания трактата «О Пасхе» также был сщмч. Александр. Согласно традиц. интерпретации повествования еп. Евсевия (основывающаяся на нем датировка была изложена и обоснована Цаном: Zahn. 1884. S. 168-176), в конце правления имп. Септимия Севера, ок. 210-211 гг., сщмч. Александр был помещен в тюрьму за исповедание христианства; из тюрьмы он отправил письмо Антиохийской Церкви, связанное с избранием ее предстоятелем еп. Асклепиада (Euseb. Hist. eccl. VI 11. 4-6). Передать это письмо должен был К. А.; рекомендуя его антиохийцам в последних строках письма, цитируемых еп. Евсевием, сщмч. Александр утверждал, что К. А., прибывший к нему «по промышлению и усмотрению Владыки (κατὰ τὴν πρόνοιαν κα ἐπισκοπὴν τοῦ δεσπότου), укрепил и увеличил Церковь Господню», и называл его «блаженным пресвитером» (Ibid. VI 11. 6; ср.: Nautin. 1961. P. 117-118). Вскоре после этого сщмч. Александр стал епископом Иерусалимским; о К. А. он еще раз упоминает в приводимом еп. Евсевием письме Оригену, к-рое, согласно датировке Цана, было написано до 216 г. (Zahn. 1884. S. 174). В письме говорится: «Мы считаем отцами этих блаженных предшественников, рядом с которыми мы скоро окажемся (πρὸς οὓς μετ᾿ ὀλίγον ἐσόμεθα): Пантена, господина воистину блаженного, и святого Климента (τὸν ἱερὸν Κλήμεντα), ставшего мне господином и принесшего мне много пользы, и всех прочих таких же; через них познакомился я и с тобой, во всем достойнейшим господином и братом моим» (Euseb. Hist. eccl. VI 14. 9). По мнению Нотена, употребляя в письме местоимение «мой» по отношению к К. А., но не к Пантену, сщмч. Александр тем самым подчеркивал важность для него личных отношений с К. А., к-рый был его учителем и помощником. Слова о том, что сщмч. Александр познакомился с Оригеном «через» александрийских дидаскалов, могут быть поняты как в узком смысле, т. е. как указание на то, что К. А. рекомендовал Оригена сщмч. Александру (в этом случае они косвенно подтверждают гипотезу о знакомстве К. А. и Оригена), так и в широком смысле, т. е. как признание принадлежности к общей александрийской учительной традиции (в пользу такого прочтения свидетельствует упоминание о «прочих таких же»; ср.: Nautin. 1961. P. 129-132). Из употребления по отношению к К. А. эпитета «святой» и слов сщмч. Александра о том, что он скоро окажется вместе с «предшественниками», исследователи делают вывод, что ко времени написания этого письма К. А. уже не было в живых; т. о., согласно традиц. датировке, принимаемой большинством совр. ученых, он скончался ок. 215 г. (см., напр.: Сагарда. 2004. С. 416-417; Feulner. 2006. S. 26-27).
Альтернативная датировка документов и свидетельств, на основании к-рых устанавливается хронология событий последнего периода жизни К. А., была предложена Нотеном в контексте исследования биографии Оригена. По его мнению, еп. Евсевий по ошибке отождествил различные гонения, имевшие место при имп. Септимии Севере, и в действительности Ориген начал деятельность катехизатора во время гонений 206-210 гг. Вероятно, в это же время К. А. покинул Александрию. Согласно Нотену, письмо Антиохийской Церкви сщмч. Александр отправил не во время тюремного заключения, а вскоре после него, уже став епископом Иерусалимским. Нотен датирует его восшествие на кафедру 215-220 гг. и считает, что к этому времени К. А. уже несколько лет был сослужителем сщмч. Александра. Письмо сщмч. Александра Оригену, по мнению Нотена, было написано после конфликта Оригена с Димитрием, еп. Александрийским, т. е. ок. 233 г., и является ответом на письмо Оригена, к-рое содержало изложение его биографии и апологию его деятельности в Александрии. В этом случае К. А. скончался между 220 и 233 гг. (Nautin. 1961; ср.: Idem. 1977. P. 409-410).
В сделанном блж. Иеронимом латинском переводе «Хроники» еп. Евсевия Кесарийского К. А. упоминается в 204 г. с замечанием «сочиняет многое и различное» (multa et varia conscribit; см.: Die Chronik des Hieronymus / Ed. R. Helm. B., 19562. S. 212); определить, указывает ли это упоминание на окончание деятельности К. А. в Александрии (согласно традиц. датировке) или на кульминацию этой деятельности (согласно датировке Нотена), невозможно. Вместе с тем характеристика «многое и различное» может свидетельствовать о том, что к этому времени были завершены и стали известны начальные книги «Стромат» К. А. (ср.: Bardy. 1937. P. 67). В «Хронике» Симеона Логофета (Sym. Log. Chron. 77. 3) и в опубликованной в «Патрологии» Миня интерполированной версии «Хроники» Георгия Амартола (Georg. Mon. Chron. III 157 // PG. 110. Col. 552) содержится заимствованное из неизвестного источника свидетельство о том, что К. А. «был» (ἦν) при имп. рим. Деции (Декии) Траяне (249-251), причем К. А. упоминается здесь вместе с Юлием Африканом, свт. Григорием Чудотворцем, еп. Неокесарийским, и пресвитером Новатом; отсутствие к.-л. иных упоминаний о К. А. после 20-х гг. III в. позволяет считать эту информацию ошибочной.
Сочинения
Наиболее полный список сочинений К. А. с кратким описанием содержания и обстоятельств создания нек-рых из них представлен в «Церковной истории» еп. Евсевия Кесарийского (10 заглавий; см.: Euseb. Hist. eccl. VI 13. 1-3); лат. версия этого списка в сокращенном виде дана в соч. «О знаменитых мужах» блж. Иеронима (Hieron. De vir. illustr. 38). Свидетельства об отдельных сочинениях К. А., в т. ч. об отсутствующих в списке еп. Евсевия, и цитаты из них встречаются у мн. визант. церковных писателей и историков; значительное число отрывков присутствует в гномологиях и флорилегиях, в т. ч. в различных списках сб. «Священные параллели» (CPG, N 8056), автором к-рого считается прп. Иоанн Дамаскин, а также в греч. и араб. катенах (обзор фрагментов в катенах см.: Plátová. 2013). Лишь 4 сочинения К. А. сохранились полностью; от прочих остались немногочисленные фрагменты или только заглавия. По мнению исследователей, сохранившиеся сочинения К. А. являются наиболее важными с т. зр. содержания и именно они определили общий характер рецепции взглядов К. А. христ. писателями и богословами последующих веков; вместе с тем для корректной интерпретации их содержания необходимо учитывать, что нек-рые идеи и концепции К. А. мог излагать в них кратко и тезисно, зная, что они более обстоятельно разобраны в др. его работах, ныне недоступных. Произведения К. А. свидетельствуют о широте его богословских интересов и показывают его многосторонность как писателя: К. А. проявлял себя в них как апологет и полемист, догматист и моралист, экзегет и гомилет (Сагарда. 2004. С. 417).
Общая характеристика
I. Стилистические особенности. Для сочинений К. А., несмотря на их тематическое многообразие, характерно определенное стилистическое единство. Описывая лит. стиль (φράσις) К. А. как писателя на примере «Увещевания к язычникам» и «Педагога», свт. Фотий, патриарх К-польский, характеризовал его как «цветистый (ἀνθηρά), достигающий иногда подлинной возвышенности и не лишенный приятности» (Phot. Bibl. 110). Сам К. А. в «Строматах» отмечал, что не желает «эллинизировать» (λληνίζειν), т. е. заботиться о правильности эллинской речи. По его словам, риторически и логически безупречная речь «годна лишь для того, чтобы увести толпу от истины», тогда как поборнику истины «не следует заботиться об устройстве речи (τὴν φράσιν) сообразно предварительному замыслу и размышлению, а нужно по возможности стараться выражать в словах (ὀνομάζειν) лишь то, о чем он хочет сказать, поскольку от тех, кто добиваются красоты выражений и заботятся об этом, ускользают сами вещи (τὰ πράγματα)» (Clem. Alex. Strom. II 1. 3. 1-2; ср.: Ibid. VII 18. 111. 3). Говоря о собственной лит. и учительной деятельности, К. А. свидетельствовал, что он желает, «нисколько не заботясь о красноречии, довольствоваться прикровенным высказыванием умопостигаемого смысла (αἰνίξασθαι τὸ νοούμενον)» (Ibid. I 10. 48. 1; в русских переводах Корсунского (Строматы. 1892. Стб. 58) и Афонасина (Строматы. 2003. С. 104) смысл фразы искажен). В этом отношении речевым идеалом для К. А. был профетический и энигматический греч. язык Септуагинты, лаконичность, прерывистость и темнота к-рого оставляют простор для мысли читателя и толкователя (подробнее см.: Le Boulluec. 1991).
Хотя строение фраз у К. А. на первый взгляд представляется хаотичным и далеким от классической правильности, при более внимательном анализе обнаруживается искусное и ненавязчивое использование им мн. специальных риторических приемов, характерных для лит-ры его времени (см. подробный стилистический анализ «Увещевания к язычникам»: Steneker. 1967). Морфологический анализ языка К. А. свидетельствует о частом употреблении им оптативных глагольных форм, использование которых для I-II вв. является надежным маркером, отделяющим риторическую и лит. речь сторонников аттикизма от характерного для «народной» лит-ры и повседневного общения разговорного койне (см. в ст. Греческий язык), в к-ром оптатив почти не использовался (анализ см.: Scham. 1913). Особенности употребления предлогов и предложных глаголов у К. А. подтверждают вывод о присущей ему ориентации на нормы аттикизма (анализ см.: Mossbacher. 1931). Как и мн. писатели его времени, К. А. активно пользовался характерным для светской греч. и лат. лит-ры приемом variatio sermonis, т. е. намеренным употреблением различных синонимов, синонимичных конструкций и повторов для выражения одной и той же мысли; этот прием употреблялся с целью придания тексту большей риторической изысканности (анализ см.: Tengblad. 1932). В следовании мн. нормам аттикизма К. А. близок как к Филону Александрийскому, так и к своим современникам - риторам и философам, объединяемым под условным наименованием «второй софистики». Использование К. А. эллинистических риторических и стилистических принципов является не случайным, а намеренным и систематическим, что позволяет совр. исследователям говорить об осуществленной им «христианизации риторики» (Rizzi. 1993). Т. о., разговорная простота языка К. А.- лишь внешний эффект, а встречающиеся в его речи «ошибки» объясняются не недостатком у него классического образования и литературного таланта, но присущим ему стремлением сблизить и синтезировать стилистически различные пласты: наследие классической лит. традиции, койне библейской и раннехрист. лит-ры (в т. ч. LXX и НЗ) и аттикизирующие лит. нормы второй софистики (ср.: Scham. 1913. S. 173-178; Harl. 1949. P. 102-105).
Умело имитируя строение разговорной речи, К. А. часто прерывает сам себя, вставляет в период новую мысль, цитату или образ, а затем возвращается к предшествующему изложению; тем самым он добивается живости представления материала, не позволяет читателю отвлечься и утомиться монотонностью последовательного проведения одной мысли, постоянно держит его внимание в напряжении. Указывая на резкие переходы К. А. от одной темы к другой, на пространные отступления (нередко посвященные предметам, слабо связанным с основной темой рассуждения), на обилие всевозможных цитат, уместность и контекстуальная правильность приведения к-рых не всегда очевидна, нек-рые исследователи делали вывод, что К. А. «подавила масса идей и материала», что он «не умел управлять собой и ограничивать себя в письменном изложении», вслед. чего в его сочинениях трудно найти «строгую последовательность мыслей», что он «оказался не в состоянии написать какую-либо систему христианского богословия» (Сагарда. 2004. С. 425, 422; ср.: Christ. 1901. S. 466-468; Bardenhewer. 1914. S. 49). Подобные оценки, однако, являются следствием перенесения на творчество К. А. чуждых ему категорий новоевроп. научно-философского сознания, ориентированного на рациональное обобщение и систематическое представление знания. В эпоху К. А., напротив, талант философа и писателя оценивался не столько по умению систематически изложить нек-рый комплекс идей, сколько по убеждающей силе его рассуждений, по способности непосредственного воздействия на слушателей и читателей. В этом отношении по стилистике и структуре сочинения К. А. органично представляют лит. традицию второй софистики в том виде, в каком она выражена, напр., в речах оратора и философа Диона Хризостома (I-II вв.). Выделение в сочинениях К. А. отдельных завершенных тематических блоков позволяет увидеть, что в способе представления материала он близок к бывшему чрезвычайно популярным в нач. I тыс. жанру философской диатрибы, к-рая восходит к сократической традиции лит. имитации живой беседы (обоснование этого см.: Brackett. 1986). Т. о., речь К. А. и стилистика его произведений точно соответствуют цели, к-рую он ставил перед собой - адаптации содержания христ. проповеди к интеллектуальным запросам образованных носителей классической греч. культуры.
II. Гипотеза о трилогии. В исследовательской лит-ре широко обсуждалась проблема отношения основных сочинений К. А. друг к другу, средоточием к-рой является вопрос о том, следует ли считать сочинения «Увещевание к язычникам», «Педагог» и «Строматы» тематически и структурно взаимосвязанными частями единой трилогии, созданной К. А. с целью последовательного раскрытия общей темы «христианского совершенства» (Сагарда. 2004. С. 421), или, с объективной т. зр., «построения, на основе церковного Предания и Священного Писания, учения о Боге Слове (Логосе) и Его спасительном действии на мир человеческий» (Сидоров. 1998. С. 68). В качестве основного подтверждения того, что К. А. собирался написать трилогию, традиционно используется открывающее соч. «Педагог» рассуждение о различных действиях Логоса, которое завершается словами: «Человеколюбивый во всем Логос, заботясь о том, чтобы мы достигали совершенства при помощи спасительных ступеней, ради действенного воспитания прибегает к последовательному и прекрасному домостроительству [и выступает] сперва как Увещеватель, затем как Педагог и, наконец, как Учитель (προτρέπων ἄνωθεν, ἔπειτα παιδαγωγῶν, ἐπ πᾶσιν ἐκδιδάσκων)» (Clem. Alex. Paed. I 1. 3. 3; анализ текста см.: Méhat. 1966. P. 72-74; Knauber. 1985. S. 178-180; Rizzi. 2011. P. 156-158).
Впервые соотнесение 3 действий Логоса с 3 произведениями К. А. было осуществлено в нач. XVII в. нидерландским ученым Д. Хейнсием (1580-1655), издателем собрания сочинений К. А. (см.: Danielis Heinsii In Clementis Protrepticon, Paedogogum, Stromateon libros, Emendationes // Κλήμεντος ᾿Αλεξανδρέως Τὰ εὑρισκόμενα: Clementis Alexandrini Opera graece et latine quae extant. Lugd. Batav., 1616. P. 39 (Pag. secunda); ср.: PG. 8. Col. 50-52. Not. 35). К XIX в. представление о трилогии стало общепринятым, вошло во мн. патрологические и церковно-исторические работы и легло в основу концепций, в рамках к-рых описывались лит. и богословская «задачи» К. А. Наиболее известной и влиятельной в зап. науке стала концепция Ф. Овербека, согласно к-рому, создавая трилогию, К. А. стремился «не просто предложить введение в христианство», но «с помощью литературного предприятия сделать из обычного христианина совершенного христианина»; «не повторить то, что уже было содержанием христианской жизни, но возвести христианина к чему-то более высокому», т. е. к мистериальному и гностическому содержанию «Стромат», к-рое не предлагалось в традиц. церковном научении (Overbeck. 1882. S. 456; ср.: Bardenhewer. 1914. S. 50-66; Сагарда. 2004. С. 421). По мнению Овербека, все 3 сочинения К. А. предназначал не для язычников, а для опытных христиан; он боролся не с внешним язычеством, но с рудиментами язычества, ставшими частью жизни Церкви (Overbeck. 1882. S. 457; критику см.: Knauber. 1978. S. 163-171).
В кон. XIX в. франц. исследователь Э. де Фе оспорил традиционное представление, указав на то, что «Строматы» не содержат рассмотрения мн. фундаментальных догматических вопросов и по своему характеру не могут рассматриваться как христ. учительное сочинение, к-рое собирался написать К. А.; по предположению Фе, это лишь особого рода пропедевтическое введение к оставшемуся ненаписанным богословскому трактату «Дидаскал» (Faye. 1898. P. 99-111). Хотя предположение о «Дидаскале» было отвергнуто почти всеми учеными, косвенным подтверждением предположений Фе о том, что «Строматы» не входят в трилогию, стали результаты научной работы П. Вендланда, к-рый, проведя текстологическое исследование «Педагога», пришел к выводу, что книги 1-4 «Стромат» были написаны после «Увещевания к язычникам», но до «Педагога» (см.: Wendland. 1886; Idem. 1898. Sp. 653-654). Попытки согласовать мнения Фе и Вендланда с представлением о трилогии предпринимали А. фон Гарнак (Harnack. 1904. P. 9-15), К. Хойсси (Heussi. 1902) и мн. др. исследователи, соглашавшиеся с ошибочностью традиц. хронологии создания 3 сочинений; т. о., представление о «Строматах» как о 3-й части трилогии, написанной после 2 предшествующих, оказалось проблематизировано. Научная дискуссия о соотношении 3 основных сочинений К. А. шла на протяжении всего XX в.; до наст. времени среди ученых остаются как сторонники, так и противники гипотезы о трилогии (обзор дискуссии см.: Stählin. 1934. S. 29-35; Brackett. 1986. P. 4-14; Киприан (Керн). 1992. С. 105-108; Feulner. 2006. S. 38-47; Itter. 2009. P. 15-32). Предлагавшиеся исследователями решения могут быть систематизированы в виде 3 основных позиций: 1) К. А. задумал и создал трилогию, «Строматы» - ее третья часть, не вполне соответствующая первоначальному замыслу и, возможно, оставшаяся незавершенной (см.: Overbeck. 1882; Méhat. 1966. P. 71-96; Itter. 2009; Сидоров. 1998. С. 68, 72-73); 2) К. А. хотел создать трилогию, однако «Строматы» не являются ее третьей частью; третья часть, условно называемая исследователями «Дидаскал», не была написана К. А. (см.: Faye. 1898. P. 99-111; Munck. 1933. S. 9-126; Pohlenz. 1943. S. 117-199; Quasten. Patrology. Vol. 2. P. 12); 3) у К. А. не было намерения создавать трилогию, а все связи между его сочинениями могут быть объяснены без этой гипотезы (см.: Stählin. 1934. S. 24-35; Lazzati. 1939. P. 1-36; Quatember. 1946. S. 29-42; Knauber. 1978; Idem. 1985; Brackett. 1986; Rizzi. 2011).
Наименее убедительной и фактически отвергнутой в наст. время является 2-я позиция, т. к. никаких однозначных упоминаний о «Дидаскале» как об особом богословском сочинении, отличном от «Стромат», в произведениях К. А. не встречается. Свидетельства о ранней рецепции наследия К. А. и рукописная традиция ставят под сомнение как 2-ю, так и 1-ю позицию. Ни еп. Евсевий Кесарийский, ни блж. Иероним, ни свт. Фотий, патриарх К-польский, сообщая о сочинениях К. А., не говорят ни о «Строматах», ни о гипотетическом «Дидаскале» как о частях некой трилогии (ср.: Киприан (Керн). 1992. С. 107-108; Rizzi. 2011. P. 156). При этом свт. Фотий связывает сочинения «Увещевание к язычникам» и «Педагог», замечая, что первое «предшествует» второму и «соединено» (συνταττόμενον) с ним; о «Строматах» ничего похожего не утверждается (Phot. Bibl. 110). Из изложения свт. Фотия можно сделать вывод, что уже в его время рукописи «Стромат» существовали отдельно от рукописей, в к-рых совместно содержались «Увещевание к язычникам» и «Педагог»; о том же свидетельствуют рукописи, сохранившиеся до наст. времени. Спекулятивность и искусственность 1-й позиции в ее традиц. виде убедительно продемонстрировали Дж. Лаццати, Кватембер, Кнаубер и др. исследователи. Кнаубер, проведя внимательный анализ «Педагога», пришел к выводу, что рассуждения К. А. о 3 действиях Логоса являются не описанием «литературной программы», но выражением реальной практики александрийской церковной катехезы. «Увещевание к язычникам» и «Педагог» соответствуют 2 катехизическим этапам и в этом смысле действительно являются цельной «дилогией», однако помещение в один ряд с ними «Стромат» по ряду причин не может быть признано корректным. Так, учительное действие Логоса К. А. в заключительной части «Педагога» прямо связывает с толкованием Свящ. Писания, с «изъяснением священных словес» (ἐξήγησιν τῶν ἁγίων λόγων - Clem. Alex. Paed. III 12. 97. 3); при этом он утверждает, что «школой», где осуществляется это толкование, является Церковь, а «единственным Учителем - Жених» (ὁ νυμφίος ὁ μόνος διδάσκαλος - Ibid. 98. 1), т. е. Иисус Христос. Т. о., учительное действие - это толкование Свящ. Писания в свете церковного Предания, т. е. фактически обращенная к членам христ. общины церковная богословско-экзегетическая проповедь, осуществляемая учителями и священнослужителями по повелению Иисуса Христа и как бы от Его имени (см.: Knauber. 1985. S. 180-183). К. А. занимался такой учительной проповедью как катехизатор и, возможно, как пресвитер; ее выражением могли являться несохранившиеся «Очерки», к-рые, однако, отражали лишь начальный этап церковного научения и не были систематическим изложением богословских истин (ср.: Méhat. 1981. S. 102). То, что высшему уровню учительной деятельности соответствует «духовная», т. е. аллегорическая, экзегеза, подтверждается формулируемым в «Педагоге» (Clem. Alex. Paed. II 8. 76. 1) различением между «педагогическим образцом» (παιδαγωγικὸς τύπος) и «учительным образом» (διδασκαλικὸν εἶδος), на важность которого указал М. Рицци, предположивший, что различие 3 действий Логоса связано не с разными сочинениями К. А., но с 2 различными стилями (style), т. е. способами экзегезы, к к-рым прибегает К. А. во всех сочинениях. Согласно М. Рицци, это увещевательно-педагогический способ, который используется для рассмотрения вопросов этики и практической христ. жизни и предполагает буквально-типологическое толкование Свящ. Писания, прямое использование исторических примеров, а также нравственную рефлексию; и учительный способ, который применяется при обсуждении доктринальных вопросов и теоретических богословских положений и связан с использованием интеллектуальных философско-богословских размышлений и аллегорической герменевтики (Rizzi. 2011. P. 159-160; ср. также: Pohlenz. 1943. S. 117; Quatember. 1946. S. 36-37). Первый способ доминирует в «Увещевании к язычникам» и «Педагоге», второй - в «Строматах» и примыкающих к ним произведениях, однако, поскольку оба способа у К. А. неразрывно связаны, не предполагалось никакого отдельного «учительного» сочинения, в к-ром бы излагалась богословская теория без ее связи с практикой христ. жизни. Кроме того, если учащий Логос, о Котором говорится в «Педагоге», наставляет исключительно верующих, приходящих к Нему в Церковь, то К. А. в «Строматах» обращается ко всем без различия, создавая поле для диалога между язычниками, христианами, еретиками и т. д.- всеми людьми, неравнодушными к поиску религ. истины. Характеризуя «учительный вид слов» (τὸ διδασκαλικόν εἶδος τῶν λόγων) в «Педагоге», К. А. отмечал, что такое слово является «кратким» (ἰσχνόν), «духовным» (πνευματικόν), «наделенным точностью» (ἀκριβολογίας ἐχόμενον) и «связанным с созерцанием таинств» (ἐποπτικόν); такой способ выражения, по его убеждению, лучше всего подходит для повествования о высоких истинах теоретического богословия (Clem. Alex. Paed. I 3. 8. 3; ср.: Méhat. 1966. P. 92-95). Однако в «Строматах» предлагаются не сами по себе христианские «догматы», к-рым научает Учитель христиан (ἐν τοῖς δογματικοῖς δηλωτικὸς κα ἀποκαλυπτικός - Clem. Alex. Paed. I 1. 2. 1), но лишь «зачатки догматов» (τὰ ζώπυρα τῶν δογμάτων; букв. ζώπυρα - «искры, из которых загорается огонь»), а церковное учение намеренно смешивается с философскими рассуждениями, «чтобы обнаружение священных преданий было нелегким делом для непосвященных» (Strom. VII 18. 110. 4). К. А. недвусмысленно заявлял об отсутствии у него намерения прямо, открыто и последовательно излагать в «Строматах» истины веры, т. к. общедоступность письменного изложения неизбежно приводит к их профанации. Полагая, что полная письменная фиксация богословского учения Церкви является нежелательной и опасной, К. А. отмечал, что отдельные вопросы богословия могут быть предметом обсуждения, однако все церковное учение в целом должно оставаться устным преданием, доступным лишь членам Церкви и познаваемым только в процессе практической церковной жизни (см.: Ibid. I 1. 13. 1-4; ср.: Ibid. I 1. 15. 1-2; I 1. 18. 1; I 2. 21. 2; I 12. 55. 1-2; VII 18. 111. 1; ср.: Quatember. 1946. S. 40-42).
Основываясь на этих доводах, сторонники 3-й позиции, к-рая в наст. время представляется наиболее обоснованной, заключают, что «Строматы» соответствуют учительной деятельности Логоса лишь отчасти, т. е. в той мере, в какой в них присутствует экзегетическо-теоретическое изложение К. А. отдельных тем христ. богословия. Вместе с тем стратегии интерпретации «Стромат» и др. произведений К. А. должны определяться не идеей фиктивной трилогии, а внутренними характеристиками рассматриваемых текстов. Если «Увещевание к язычникам» и «Педагог» являются лит. обработанными беседами, структурно и содержательно восходящими к практической деятельности К. А. как церковного учителя (текстологические аргументы в пользу их происхождения из реальных бесед см.: Brackett. 1986; ср. также: Wendland. 1886; Lechner. 2007), то «Строматы» представляют собой свободные лит. экскурсы, тематика к-рых определяется основными философско-богословскими проблемами, выделенными К. А. в связи с осуществлявшимся им на протяжении всей его учительной деятельности соотнесением истин христианства с положениями тех интеллектуальных течений, к-рые либо потенциально (как греч. философия), либо актуально (как гностические системы) противостояли христианству и требовали рационального анализа и опровержения. Содержащиеся в «Строматах» параллели с «Увещеванием к язычникам» и «Педагогом», а также перекрестные ссылки между 3 произведениями объясняются тем, что К. А. работал над «Строматами» длительное время и соотносил их план с проч. своими сочинениями (см., напр.: Clem. Alex. Strom. VI 1. 1. 3; VII 4. 22. 3; II 20. 113. 2; V 13. 88. 4; VI 18. 168. 4; ср.: Paed. I 6. 47. 1; II 11. 117. 4; III 8. 41. 3). Вместе с тем текст «Стромат» не дает подтверждений для гипотезы о трилогии, которая в силу этого должна рассматриваться лишь как условная исследовательская конструкция, как один из мн. возможных подходов к интерпретации наследия К. А.
III. Рукописная традиция. Все известные в наст. время рукописи 4 сохранившихся сочинений К. А. восходят к 3 протографам (подробное описание рукописной традиции см.: Stählin. 1905. S. XVI-XLV; ср.: Idem. 1934. S. 41-42; Cosaert. 2008. P. 13-14). Для «Увещевания к язычникам» и «Педагога» протографом является «кодекс Арефы» - хранящаяся в Национальной б-ке Франции греч. рукопись X в. (Paris. gr. 451), созданная по заказу Арефы, архиеп. Кесарии Каппадокийской, писцом Вааном. Помимо 2 произведений К. А., открывающих рукопись (Ibid. Fol. 1-154), она содержит неск. сочинений раннехрист. апологетов и еп. Евсевия Кесарийского. На полях рукописи имеются краткие схолии; по мнению Штелина, часть из них принадлежит Ваану, а часть - архиеп. Aрефе (текст опубл.: Clem. Alex. Werke. 19723. Bd. 1. S. 293-340; анализ содержания см.: Stählin. 1897). В рукописи отсутствуют неск. десятков листов, в т. ч. листы, содержавшие большую часть 1-й кн. «Педагога» (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 1 - I 12. 96. 1) и помещенные после этого сочинения 2 гимна; этот недостаток восполняется по 2 не зависящим друг от друга рукописям (Mutin. gr. 126 (в др. системах нумерации: III. D. 7; α. S. 5. 9) и Laurent. Plut. 5. 24), к-рые были списаны с протографа до утраты листов. Для соч. «Строматы» и примыкающих к нему произведений протографом является хранящаяся в б-ке Лауренциана (Флоренция) рукопись XI в. (Laurent. Plut. 5. 3); 1-й лист рукописи был утрачен, вслед. чего известный ныне текст «Стромат» начинается с обрывка приводимой К. А. цитаты из соч. «Пастырь» раннехрист. писателя Ермы (II в.). Список с этой рукописи (выполнен уже после утраты 1-го листа; XVI в.) хранится в Национальной б-ке Франции (Paris. Suppl. gr. 250). Протограф для соч. «Кто из богатых спасется?» представлен в рукописи XII в. из б-ки Эскориала (Scorial. gr. 552. Fol. 326v-345 (в др. системе нумерации: Ω-III-19)); к ней восходит текст, содержащийся в рукописи из б-ки Ватикана (Vat. gr. 623), к-рая использовалась издателями этого сочинения до нач. XX в. Косвенная традиция (т. е. цитаты из сочинений К. А., сохранившиеся в произведениях др. древних авторов, катенах и сборниках) для основных сочинений К. А. предоставляет текстологически полезную информацию лишь в немногочисленных случаях (выборку косвенных свидетельств для 4 сохранившихся сочинений К. А. см.: Zahn. 1884. S. 17-31; Harnack. 1893. S. 311-315, 317-322; обзор и анализ см.: Stählin. 1905. S. XLVII-LXV; ср. также указатель Штелина: Clem. Alex. Werke. Bd. 4. Tl. 1. 19802. S. XXII-XXV, 59-66).
Согласно выводам Штелина, просмотревшего все доступные ему рукописи при подготовке критического издания сочинений К. А., основные отличия позднейших списков от протографов обусловлены попытками писцов «улучшить» текст и в силу этого не содержат текстологически востребованных сведений. Помимо нек-рых текстовых лакун протографы почти не имеют физических дефектов и хорошо читаются. Однако представленные в них тексты находятся в далеком от идеального состоянии и изобилуют разного рода ошибками переписчиков, в т. ч. заменами гласных и согласных букв на похожие по написанию или по звучанию; неверными расшифровками сокращений исходного текста; неправильной передачей имен и незнакомых переписчикам редких слов, и т. п. (обзор ошибок и рукописных корректур Paris. gr. 451 см.: Stählin. 1905. S. XIX-XXIII, XXXII-XXXIX; обзор ошибок и особенностей орфографии Laurent. Plut. 5. 3 см.: Mayor. 1902. P. LXV-XCI; Stählin. 1905. S. XLI; Clem. Alex. Werke. 1909. Bd. 3. S. IX-XVIII; обзор орфографии Scorial. gr. 552 см.: Ibid. S. XVIII-XXVII). В наихудшем состоянии находится текст «Стромат»; мн. места сочинения при следовании чтениям рукописи оказываются совершенно испорченными и лишенными смысла. По предположению исследователей, одной из причин этого могло быть использование переписчиком в качестве источника рукописи, архетипом которой был папирус, имевший физические повреждения и содержавший большое число разнообразных редких сокращений (Mayor. 1902. P. LXXIX-LXXX; Stählin. 1905. S. XLI). Т. о., издание произведений К. А. не могло быть осуществлено без предварительной кропотливой исследовательской и редакторской работы, результаты которой, выраженные в конъектурах и эмендациях, во многом задавались общими филологическими установками готовивших тексты к публикации издателей.
IV. Основные издания и переводы. Различия редакционных принципов и методов работы с текстами К. А. нашли отражение в истории издания его сочинений. С XVI в. и до наст. времени в каждом издании неизменно появляются новые редакторские конъектуры, чтения и гипотезы, а критический аппарат нередко становится полем для полемики между филологами (обзор изданий до нач. XX в. см.: Stählin. 1905. S. LXV-LXXIII; ср.: Idem. 1934. S. 42-44). Первое печатное издание (editio princeps) сочинений К. А. было подготовлено и опубликовано в сер. XVI в. итал. гуманистом П. Веттори (1499-1585) по 2 рукописям из б-ки Лауренциана (Laurent. Plut. 5. 3; Laurent. Plut. 5. 24) и неск. спискам с них (Κλήμεντος ᾿Αλεξανδρέως Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα: Ex Bibliotheca Medicea. [Florentiae, 1550]). Почти одновременно был опубликован лат. перевод, выполненный франц. ученым и теологом Ж. Эрве (1499-1584) (Clementis Alexandrini Omnia quae quidem extant opera, nunc primum e tenebris eruta Latinitateque donata Gentiano Herveto Aurelio interprete. Florentiae, 1551). Издатели XVI-XVII вв., в числе к-рых были выдающиеся ученые-гуманисты Ф. Зильбург (1536-1596) и Д. Хейнсий, брали за основу editio princeps, сличая его с доступными им рукописями (выбор к-рых в целом имел случайный характер), внося эмендации, дополняя примечаниями и указателями. Попытку предложить новое издание на основе рукописей и обобщить всю предшествующую редакторскую традицию предпринял в нач. XVIII в. англ. ученый Дж. Поттер (1674-1747; c 1737 - архиеп. Кентерберийский), подготовивший 2-томное издание греч. текста с параллельным лат. переводом (Κλήμεντος ᾿Αλεξανδρέως Τὰ εὑρισκόμενα: Clementis Alexandrini Opera, quae extant / Recognita et illustrata per J. Potterum. Oxonii, 1715). Хотя использованные им для издания англ. рукописи были довольно поздними (XVI в.), издание имело большое научное значение для своего времени, т. к. Поттер впервые разделил «Увещевание к язычникам» и «Строматы» К. А. на главы (деление на главы «Педагога» восходит к рукописной традиции), идентифицировал мн. цитаты из Свящ. Писания и античной лит-ры, предложил в примечаниях смысловые параллели из греч. и лат. источников, внес многочисленные исправления в греч. текст и в использованный им лат. перевод Эрве («Увещевание к язычникам» было заново переведено на латынь самим Поттером). В издании, подготовленном нем. филологом Р. Клоцем на основе предшествующих публикаций без обращения к рукописям (Titi Flavi Clementis Alexandrini Opera omnia / Recogn. R. Klotz. Lipsiae, 1831-1834. 4 vol.), в текст сочинений было впервые внесено разбиение на параграфы, сохраняющееся в последующих изданиях. В сер. XIX в. греч. и лат. тексты издания Поттера с использованием нек-рых материалов из издания Клотца были перепечатаны в греч. серии «Патрологии» Миня (PG. 1857. T. 8-9; 2-е изд.: PG. 1890. T. 8; 1891. T. 9); в качестве приложения было напечатано обширное исследование о сочинениях К. А. (см.: PG. 9. Col. 795-1484), созданное в нач. XVIII в. франц. патрологом монахом-бенедиктинцем Д. Н. Ле Нурри (1647-1724). Первую попытку осуществить критическое издание текстов К. А. предпринял в кон. XIX в. оксфордский ученый нем. происхождения В. Диндорф (1802-1883), опубликовавший 4-томное собрание сочинений К. А. (Clementis Alexandrini Opera / Ex rec. G. Dindorfii. Oxonii, 1869). После выхода издание Диндорфа подверглось жесткой критике: хотя в нем использовались транскрибированные по заказу Диндорфа протографы, транскрипция и коллация протографов с позднейшими списками проводились невнимательно; в ряде случаев поздние чтения безосновательно предпочитались ранним; предлагаемая редакторская пунктуация нередко была ошибочной и искажала смысл текста; указания источников и параллелей были в основном заимствованы из издания Поттера (см., напр., рецензию: Lagarde. 1870; ср.: Stählin. 1905. S. LXXIII).
С кон. 80-х гг. XIX в. подготовкой нового критического издания занимался Штелин, лично произведший сверку основных рукописей, а также пользовавшийся рукописными коллациями и конъектурными предложениями нем. филологов Т. Ф. Хейзе (1803-1884) и Э. Хиллера (1844-1891), которые независимо друг от друга во 2-й пол. XIX в. готовили критические издания сочинений К. А., но не успели осуществить свои замыслы. Работая в постоянном контакте со мн. выдающимися филологами кон. XIX - нач. XX в., Штелин успешно осуществил критическое издание полного собрания сочинений и фрагментов К. А., к-рое было выпущено в берлинской серии «Греческие христианские писатели первых трех веков» (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte; 12, 15, 17, 39 = Clem. Alex. Werke. 1905-1936. 4 Bde). В 1905 г. был опубликован 1-й т., в к-рый вошли сочинения «Увещевание к язычникам» и «Педагог». В 1906 г. был издан 2-й т., содержавший книги 1-5 «Стромат». В 1909 г. вышел 3-й т., в к-рый вошли книги 6-7 «Стромат», примыкающие к ним произведения, соч. «Кто из богатых спасется?», а также фрагменты несохранившихся сочинений. Заключительный 4-й т. был подготовлен Штелином к 1909 г., однако из-за финансовых сложностей издателей был напечатан лишь в 1934 (1-я ч.) и 1936 (2-я ч.) гг.; том целиком состоит из подробнейших указателей (ок. 800 с.), в к-рых учтены библейские и лит. цитаты, встречающиеся в сочинениях К. А.; косвенные источники, используемые К. А.; прямые цитаты и косвенные заимствования из сочинений К. А., присутствующие у церковных писателей последующих веков; употребляемые К. А. греч. имена, слова и понятия. Издание Штелина стало одним из высших достижений нем. классической филологии 1-й пол. XX в. и до наст. времени остается лучшим и основным критическим изданием сочинений К. А. При подготовке издания Штелин использовал все существующие источники текстов К. А., в т. ч. рукописные материалы катен и сборников; выявил значительное число неизвестных ранее цитат и параллелей; учел в аппарате все исправления текста, предлагавшиеся в предшествующих изданиях; упорядочил общепринятую ныне 4- или 3-уровневую систему деления текста на книги (для «Педагога» и «Стромат»), главы (соответствуют делению Поттера), параграфы (соответствуют делению Клоца), подпараграфы (введены в изд. Штелина). Желая вернуть греч. язык текстов К. А. к его предполагаемому первоначальному состоянию, Штелин внес значительное число конъектур и эмендаций; эта сторона его редакционной работы получала противоречивую оценку у последующих исследователей, мн. из к-рых указывали на чрезмерность редакторского вмешательства Штелина в исходный рукописный текст. Однако, поскольку рукописные чтения всегда приводятся в аппарате, читатель может как принимать эмендации Штелина (или др. редакторов), так и ориентироваться на текст рукописей. Постоянно работая над уточнением и улучшением аппарата, Штелин успел подготовить исправленное 2-е изд. 1-го и 2-го томов (Clem. Alex. Werke. 19362. Bd. 1; 19392. Bd. 2), а также ряд дополнений и исправлений к др. томам (Ibid. 1936. Bd. 4. S. XIII-LXXX); в частности, он принял мн. эмендации, предложенные Дж. Джексоном (см.: Jackson. 1931). После Штелина над исправлением и дополнением аппарата издания работали Л. Фрюхтель (3-е изд. 2-го т.: Clem. Alex. Werke. 1960. Bd. 2; 2-е изд. 3-го т.: Idem. 1970. Bd. 3) и У. Трой (2-е изд. 3-го т.: Idem. 1970. Bd. 3 (доработка и публикация исправлений Фрюхтеля); 3-е изд. 1-го т.: Idem. 1972. Bd. 1; 4-е изд. 2-го т.: Idem. 1985. Bd. 2; 2-е изд. 1-й ч. 4-го т.: Idem. 1980. Bd. 4. Tl. 1). Во всех переизданиях основной текст сочинений К. А. дается без изменений (не считая исправления явных опечаток и ошибок) по 1-му изданию, тогда как аппарат предлагается в переработанном виде.
С 1948 г. сочинения К. А. издаются на языке оригинала с параллельным франц. переводом в патрологической серии «Христианские источники» (Sources Chrétiennes); к наст. времени выпущены кн. 1-2 и 4-7 «Стромат» (SC. 30, 38, 278-279, 428, 446, 463), «Увещевание к язычникам» (Ibid. 2bis), «Педагог» (Ibid. 70, 108, 158), «Кто из богатых спасется?» (Ibid. 537) и «Извлечения из сочинений Феодота...» (Ibid. 23). Греч. текст, заимствованный из издания Штелина, в томах SC модифицировался в зависимости от предпочтений издателей: одни стремились максимально приблизить его к рукописям, восстанавливая чтения по аппарату Штелина или работая непосредственно с рукописными источниками, другие ограничивались лишь упрощением аппарата и отказом от нек-рых эмендаций Штелина, иногда предлагая вместо них собственные. Т. о., греч. текст в SC не является критическим в строгом смысле, вслед. чего эти издания не могут служить заменой изданию Штелина; наибольшую ценность в них представляют подробные введения, примечания и комментарии редакторов и переводчиков. На рубеже XX и XXI вв. М. Маркович (1919-2001) предложил новые критические издания «Увещевания к язычникам» (Clementis Alexandrini Protrepticus. 1995) и «Педагога» (Clementis Alexandrini Paedagogus. 2002); при их подготовке он опирался на издание Штелина, уточнив и упростив его аппарат и систему указаний параллелей. По словам Марковича, он предложил значительное число собственных эмендаций спорных мест, «ориентируясь на источники Климента, на его словарный запас и на выражения, встречающиеся в других местах его сочинений» (Ibid. P. X-XI). Ввиду того что полного объяснения и обоснования большинства вносимых в тексты изменений, иногда крайне смелых, Маркович не предлагает (обоснование ряда эмендаций для «Увещевания к язычникам» см.: Marcovich. 1997), пользоваться его изданиями следует с большой осторожностью, соотнося их с текстом Штелина.
В XIX-XX вв. сочинения К. А. были переведены на основные европ. языки (обзор переводов до нач. XX в. см.: Stählin. 1905. S. LXXVII-LXXX; ср.: Idem. 1934. S. 44-45). В наст. время наиболее удачным англ. переводом всего корпуса сочинений К. А. остается перевод У. Уилсона (The Ante-Nicene Fathers. 1885); из позднейших изданий заслуживают внимания переводы «Увещевания к язычникам» (The Exhortation to the Greeks. 1919), соч. «Кто из богатых спасется?» (Ibidem) и 7-й кн. «Стромат» (Miscellanies, Book VII. 1902), опубликованные с параллельным греч. текстом, а также перевод «Педагога» (Christ the Educator. 1954). Лучшие французские переводы представлены в SC. Превосходный по глубине понимания авторского текста полный перевод «Увещевания к язычникам», «Педагога», «Стромат» (без 8-й кн.) и соч. «Кто из богатых спасется?» на нем. язык был сделал Штелином; этот перевод полезен и при работе с критическим изданием Штелина, т. к. позволяет точнее понять, какой смысл Штелин вкладывал в те или иные вводимые им эмендации (Des Clemens von Alexandreia Ausgewählte Schriften. 1934-1938).
Переводы сочинений К. А. на рус. язык стали появляться в сер. XIX в. Так, в 1836 г. в ж. «Христианское чтение» был опубликован рассказ об ап. Иоанне Богослове и юноше из соч. «Кто из богатых спасется?» (Климента пресвитера Александрийского Предание о юноше, который, сделавшись разбойником, обращен был апостолом Иоанном // ХЧ. 1836. Т. 3(60). С. 275-281); в 1846 г. в том же журнале был издан полный перевод этого сочинения (Климента, пресвитера Александрийского, О том, какой богач спасется? // Там же. 1846. T. 3(99). C. 15-66; без ранее опубликованного рассказа). Отрывки из 2-й и 3-й книг соч. «Педагог» публиковались в киевском ж. «Воскресное чтение» (Педагог, творение Климента Александрийского / Пер.: Н. А. Фаворов // ВЧ. 1850-1851. № 14); перевод начальных глав 1-й книги (Clem. Alex. Paed. I 1. 1 - I V 24. 4) этого сочинения был издан во «Владимирских епархиальных ведомостях» (Педагог Климента Александрийского // Владимирские ЕВ. Неофиц. ч. 1868. № 2, 4, 6, 15, 20-22). Переводами сочинений К. А. в 60-х гг. XIX в. занимался игум. Арсений (Иващенко), опубликовавший в Прибавлениях к «Воронежским епархиальным ведомостям» целиком 1-ю кн. «Стромат» и отрывки из «Увещевания к язычникам» (Отрывок из Увещания к язычникам // Воронежские ЕВ. Приб. 1866. № 9-13; Стромат (т. е. Узоров) книга первая // Там же. 1866. № 14-24; 1867. № 1-11, 13-15, 17-20, 22-24; 1868. № 1, 3, 5, 9, 13, 14, 17-21). Полностью 4 сохранившиеся сочинения К. А. были переведены в кон. XIX в. преподавателем Ярославской духовной семинарии Н. Н. Корсунским (Увещание к эллинам. 1888; Кто из богатых спасется. 1888; Педагог. 1890; Строматы. 1892). Переводы Корсунского являются устаревшими как по языку и стилистике, так и по методу переводчика, к-рый нередко в сложных местах передает лишь приблизительный смысл текста, сильно уклоняясь от буквы оригинала; вместе с тем идеи К. А. в большинстве случаев представлены в них корректно, вслед. чего эти переводы могут быть и в наст. время пригодны для общего знакомства со взглядами К. А. В кон. XX - нач. XXI в. были изданы новые рус. переводы А. Ю. Братухина (Увещевание к язычникам. 1998) и Е. В. Афонасина (Строматы. 2003). Перевод Афонасина содержит серьезные ошибки и во мн. случаях искажает смысл оригинала, вслед. чего его использование должно быть предельно осторожным (оценку качества и научного уровня перевода см. в рецензиях: Дунаев. 2003; Шичалин. 2004).
Сохранившиеся
1. «Увещевание к язычникам» (Προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας (заглавие по ркп. Paris. gr. 451, в изданиях часто в начале добавляется Λόγος); Protrepticus (по CPG, у блж. Иеронима - Adversus gentes или Contra gentes; в PG - Cohortatio ad gentes); CPG, N 1375; PG. 8. Col. 49-246; SC. 2 bis; критическое изд.: Clem. Alex. Werke. 19723. Bd. 1. S. 3-86; рус. переводы: Увещание к эллинам. 1888; Увещевание к язычникам. 1998. 2006п). Точная датировка сочинения невозможна; согласно традиц. мнению, оно является первым по времени создания из сохранившихся сочинений К. А. и было написано до «Педагога» и «Стромат». Вероятнее всего, сочинение было создано в нач. 90-х гг. II в.; по мнению Меа - ок. 195 г. (Méhat. 1966. P. 54). По содержанию сочинение К. А. во многом сближается с произведениями христ. апологетов II в. Как и апологеты, К. А. использует высшие достижения языческой культуры,- философию и лит-ру,- чтобы продемонстрировать религ. и моральную несостоятельность наиболее распространенных форм языческого богопочитания: традиц. мифов, мистерий, религ. обрядов и обычаев. Подобное тематическое сходство побуждало мн. исследователей считать К. А. продолжателем дела раннехрист. апологетов и рассматривать «Увещевание к язычникам» в контексте апологетической лит-ры. Однако по форме, структуре и общему замыслу «Увещевание к язычникам» не является традиц. христ. апологией. В нем отсутствует обращение к светским властям, нет прямых упоминаний о гонениях на христиан (ср., однако, возможные косвенные аллюзии: Clem. Alex. Protrept. 10. 89. 3; 10. 104. 2-4); К. А. не чувствует необходимости оправдывать христианство и рассматривать обвинения, предъявляемые язычниками христианам, но ведет изложение, опираясь на изначальную непоколебимую уверенность в религ. и моральном превосходстве христианства. Христианство у К. А. предстает не как религия, борющаяся за право на существование, но как благодатный дар человечеству от Бога (Логоса), способный преобразить жизнь каждого человека, придав ей высший религ. смысл и удовлетворив чаяния разума, тщетно пытавшегося найти истину в языческой религиозности. Не являющееся апологией в жанровом смысле этого слова, «Увещевание к язычникам» вместе с тем может быть отнесено к апологетической лит-ре в широком смысле, связанном с совр. понятием о христ. апологетике как о разделе богословия, имеющем целью опровержение неверных религ. и мировоззренческих взглядов, противостоящих христианству, раскрытие и обоснование истин христ. веры в связи с действительными или возможными возражениями против них (см. ст. Апологетика). С этой т. зр. К. А. в «Увещевании к язычникам», имея перед собой ту же цель, что и раннехрист. апологеты,- защиту христ. истины от враждебных нападок,- изменил способы ее достижения в соответствии с запросами той исторической и культурной обстановки, в к-рой он вел христ. проповедь, представив христианство как религ. и культурную альтернативу языческой цивилизации (см.: Hoek. 2005). Избирая в качестве адресатов сочинения гордящихся своей религ. традицией «эллинов», К. А. воспринимал их как образцовых носителей языческой культуры и в их лице обращался к язычникам в целом (поэтому перевод в заглавии ῞Ελλην как «язычник», хотя и представляет собой интерпретацию, является допустимым). Хотя исторически возникновение «Увещевания к язычникам» было связано с катехизаторской деятельностью К. А., это сочинение предназначалось не только для круга его непосредственных слушателей в Александрии, но было обращено к широкой аудитории, к-рой К. А. представлял христианство как абсолютную истину, после появления к-рой в мире человек уже не может равнодушно продолжать прежнюю жизнь, но обязан сделать определяющий всю его судьбу выбор между «судом» и «благодатью», «гибелью» и «жизнью» (Clem. Alex. Protrept. 12. 123. 2).
С формальной т. зр. «Увещевание к язычникам» принадлежит к протрептической лит-ре (προτρεπτικοί; cohortationes; о характеристиках и истории см.: Hartlich. 1889; Slings. 1995; Jordan. 1986; Meeren. 2002; Hoek. 2005. P. 81-84; список наиболее важной лит-ры по теме см.: Lechner. 2007. S. 186. Not. 15-16), к-рая по происхождению связана с выделением в античной риторике протрептики, т. е. побуждающего увещевания, в качестве особого вида публичной речи. В силу тесной связи с риторикой сочинения протрептического характера чаще всего имели вид реально произносившихся или имитировавших живое произнесение речей (λόγοι), значительно реже - диалогов, поэтому «Увещевание к язычникам» К. А. нередко обозначается в источниках, изданиях и исследованиях как «увещевательная речь» (λόγος προτρεπτικός; см.: Euseb. Hist. eccl. VI 13. 3). В соответствии с совр. определением, античная и эллинистическая протрептика - это «искусство убеждения, направляющего слушателей к цели, которая представляется как надлежащий предмет стремлений в области творчества, науки или жизни; при этом происходит приобретение слушателями некоего необходимого знания, обладание которым в большинстве случаев предполагает практические последствия» (Wils J.-P. Protreptik // Historisches Wörterbuch der Rhetorik / Hrsg. G. Ueding e. a. Tüb., 2005. Bd. 7. Sp. 376). Протрептика как вид риторической речи была известна уже во времена деятельности афинского ритора Исократа (V-IV вв. до. Р. Х.); в «Риторике» Аристотеля протрептическая речь рассматривается как один из 2 видов «совещательной (συμβουλευτικόν) речи», т. е. как побуждение (προτροπή) к чему-либо, противопоставляемое отговариванию (ἀποτροπή) от чего-либо (Arist. Rhet. I 3. 1358b8-9). В соч. ритора Анаксимена Лампсакского (IV в. до Р. Х.) «Риторика к Александру» (Rhetorica ad Alexandrum), к-рое иногда приписывалось Аристотелю, говорится о «протрептическом виде» (εἶδος προτρεπτικόν) речи как о разновидности «ораторской» (δημηγορικόν) речи (Anaximen. Rhet. ad Alex. 1. 1. 1421b). О том, что К. А. знал эти определения и опирался на них, свидетельствует его рассуждение о побуждающем и отвращающем видах речи в соч. «Педагог»: «...одной формой (σχέσις) совещательной [речи] является [речь] побуждающая, а второй формой - [речь] отговаривающая» (Clem. Alex. Paed. I 10. 89. 2-3). Осуществленное в совр. науке отнесение «Увещевания к язычникам» К. А. к роду «совещательных речей» позволяет более точно понять формальную структуру этого сочинения, которая задается выработанными в античности общими правилами построения риторических речей (структурный анализ см.: Lechner. 2007).
Хотя первоначально протрептическая лит-ра возникла на пересечении риторики и софистики и не всегда имела строго философский характер, во время К. А. наиболее популярными и распространенными являлись морализирующие философские протрептики, авторы к-рых стремились «обратить» слушателей или читателей к философскому образу жизни, соответствующему убеждениям той или иной философской школы. Наиболее известными протрептиками такого рода были неск. произведений, сохранившиеся лишь во фрагментах: трактат «Протрептик» Аристотеля; диалог «Гортензий» Марка Туллия Цицерона, о котором повествует блж. Августин, еп. Гиппонский (см.: Aug. Confess. III 4. 7); «Протрептик» неоплатоника Ямвлиха (о них см.: Jordan. 1986. P. 322-327; Meeren. 2002). Восприняв лит. традицию античных и эллинистических философских протрептиков, К. А. вместе с тем видоизменил и обогатил ее, проведя соотнесение собственной деятельности учителя-увещевателя, обращающего свою речь (λόγος) к слушателям, с промыслительной деятельностью Божественного Логоса, ведущего человека к спасению; т. о., «логос» как человеческая речь с намеренной двусмысленностью сливается у К. А. с Божественным Логосом как источником ее действенности и силы. Именно в контексте богословского обсуждения деятельности Логоса по отношению к человеку К. А. предлагает наиболее полное определение «протрептической» речи. Согласно К. А., воздействие увещевающего Логоса относится к области «нравов» (ἤθη), т. е. принципиальных жизненных установок, определяющих поведение человека (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 1); результатом увещевания является «воспитание нрава» (ἠθοποιία - Ibid. 2. 1). В религиозно-этической интерпретации протрептики К. А. следовал философско-риторической традиции: так, согласно свидетельству Иоанна Стобея (V в.), платоник Филон из Лариссы (II-I вв. до Р. Х.) определял протрептическую речь как «побуждение к добродетели» (παρορμῶν ἐπ τὴν ἀρετήν) и отмечал, что «в одной части ее показывается великая польза от добродетели, а в другой части отвергаются [доводы] тех, кто критикуют, или ниспровергают, или как-либо очерняют [истинную] философию» (Stob. Anthol. II 7. 2); похожие определения предлагали и др. философы и риторы, в т. ч. представители второй софистики. Руководствуясь таким представлением о нормативной схеме развития протрептического рассуждения и одновременно христианизируя традицию, К. А. утверждал, что увещевающий Логос «учит богопочитанию (θεοσέβεια) и... закладывает основания в здание веры; приобретая благодаря Ему великую радость и отрекаясь от ветхих мнений, мы молодеем для спасения» (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 1). Таким пониманием деятельности увещевающего Логоса определяется смысловая структура «Увещевания к язычникам»: К. А. повествует здесь об истинном богопочитании, критикует ошибочные языческие представления о Боге и способах богопочитания, а также предлагает «спасительные истины», т. е. основоположения христ. вероучения. Т. о., место «истинной философии» как смыслового центра протрептического сочинения у К. А. занимает христ. вера, противопоставляемая языческой религии.
К. А. различал деятельность увещевающего Логоса в широком и в узком смысле: в узком смысле увещевание имеет целью «обращение», т. е. решительную перемену нрава (образа мыслей и образа жизни), и потому оно обращено к тем, кто еще не стали христианами; именно этому роду деятельности соответствует «Увещевание к язычникам». В широком смысле, по словам К. А., «увещевающим является все в целом богопочитание», т. е. в истинной религии никогда не прекращается действие увещевающего Логоса, Который «воздействует на врожденную способность к рассуждению, порождая в ней желание достичь жизни ныне и в будущем» (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 3). В античной лит. и философской традиции нередко встречалось противопоставление увещевания как протрептики, объектом к-рой являются люди, находящиеся вне некоего общества, а целью - их обращение и присоединение к этому обществу, и увещевания как паренетики, в рамках к-рой осуществляется этическое наставление в частных вопросах внутри некоего общества на основании уже принятой человеком системы ценностей. Зная об этом делении, К. А. в «Увещевании к язычникам» характеризует «богопопочитание» (θεοσέβεια) как «всеобщее увещевание» (καθολικὴ προτροπή), к-рое «простирается на всю жизнь», «во всякое время и во всех обстоятельствах направляя к важнейшей цели - жизни, в том смысле, что жить необходимо лишь ради того, чтобы жизнь вечно, ведь и философия, как говорят пресвитеры, есть долговременное совещательное рассуждение, стремящееся приобрести вечную любовь к мудрости» (Clem. Alex. Protrept. 11. 113. 1; ср.: Meeren. 2002. P. 618). Этому общему протрептическому увещеванию К. А. противопоставляет «прочие советы и назидания», т. е. паренетические наставления, к-рые «скудны и касаются чего-либо одного» (Clem. Alex. Protrept. 11. 113. 1); вместе с тем они «побуждают к послушанию» и оказывают врачующее воздействие на человека (Idem. Paed. I 1. 1. 4 - I 1. 3. 3; ср.: Glad. 2004. P. 436-438). Противопоставление протрептики и паренетики, широко обсуждавшееся в исследовательской лит-ре XIX-XX вв. (см.: Hartlich. 1889. S. 210-213, 221-223; Stowers S. K. Letter Writing in Greco-Roman Antiquity. Phil., 1986. P. 91-125; подробный анализ вопроса см.: Swancutt. 2004), у К. А. в отличие от мн. его современников не является жесткой дихотомией: увещевание в узком смысле предшествует паренетическому (т. е. практико-этическому) наставлению, тогда как в широком смысле оно всегда сохраняется как основа, связывающая конкретные наставления с обозначенной в изначальном протрептическом увещевании общей религ. целью христ. жизни; т. о., «увещевание истины» остается с человеком «до последнего вздоха» (Clem. Alex. Proterpt. 11. 117. 3). Вслед. этого «Увещевание к язычникам» оказывается ключом к корректной интерпретации паренетического содержания «Педагога», которое является практическим продолжением и развитием религ. увещевания. Расширяя сферу деятельности увещевающего Логоса и связывая с ней этическое наставление и религ. научение, К. А. не только композиционно объединял сочинения «Увещевание к язычникам» и «Педагог», но и демонстрировал важность производимого увещеванием обращения, к-рое постоянно возобновляется и заново переживается по мере духовного возрастания христианина. Для описания этого возрастания К. А. в «Увещевании к язычникам» использует мистериальные категории. Соединив переосмысленный символический ряд языческих мистерий с библейскими изречениями и образами, К. А. предложил язычникам новые «мистерии Логоса» (τοῦ λόγου τὰ μυστήρια - Clem. Alex. Protrept. 12. 119. 1), т. е. такое изложение христианства, к-рое они могли понять, опираясь на уже имевшийся у них религ. опыт. Поэтому, хотя по своей задаче «Увещевание к язычникам» соответствует первоначальной стадии христ. научения, оно предлагает краткий мистагогический очерк всей в целом спасительной деятельности Логоса, приоткрывая для присоединяющегося к христианству человека глубину таинственной жизни, к-рая начинается после вхождения в Церковь.
Предлагая в «Увещевании к язычникам» своего рода идеальный образец христ. протрептики, К. А. в тематической композиции сочинения мастерски совмещает и христианизирует как минимум 3 лит. традиции: 1) классическую риторическую схему протрептического рассуждения; 2) строение речей-диатриб эллинистической философии и второй софистики с присущими им художественными приемами и структурными особенностями; 3) мистагогическую речевую структуру, восходящую к нек-рым платоновским диалогам (общую схему композиции и пояснения к ней см.: Lechner. 2007. S. 200-221). Сочинение открывается мифологизирующим рассказом об античных певцах, среди к-рых К. А. выделяет Евнома, предлагая собственную интерпретацию мифа о том, как пение цикады заместило звучание порвавшейся струны на его кифаре; согласно К. А., не цикада участвовала в песне Евнома, но Евном подстроил свою песню под звучание цикады, певшей естественную, т. е. происходящую от Бога как Творца природы, песнь. Обобщая мифы о певцах, К. А. противопоставляет языческим песнопениям проображаемую песнью цикады нисходящую свыше песнь небесного Логоса, в которой людям открывается истинное знание (Clem. Alex. Protrept. 1. 1. 1 - 1. 2. 4). Согласно совр. исследованиям, этот нетипичный для христ. лит-ры вводный раздел, в к-ром тематика сочинения намечается в мифических образах, представляет собой особую форму риторического введения, свойственную лит-ре второй схоластики - προλαλιά (анализ и обоснование см: Rizzi. 1993; Lechner. 2010). Как показывает сопоставление текста К. А. с руководством ритора Менандра (III в.), в строении и выборе образного ряда пролалии К. А. следовал рекомендациям совр. ему риторических руководств. Целями пролалии, обычно не имевшей жесткой связи с основной тематикой произведения и лишь смутно намечавшей его лейтмотивы, были демонстрация культурного уровня автора, его лит. способностей и навыков, а также «расположение» слушателей, т. е. создание у них благоприятного отношения к оратору и к предмету речи (Lechner. 2007. S. 201-202). Дальнейшая композиция «Увещевания к язычникам» точно соответствует правилам строения античной риторической речи, обычно состоявшей из 5 разделов (см.: Till D. Rhetorik: Systemgeschichte: Antike // Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Tüb., 2005. Sp. 1545-1546). В эксордии (προοίμιον; exordium), т. е. собственно тематическом вступлении (Clem. Alex. Protrept. 1. 3. 1 - 1. 5. 4), К. А., продолжая образный ряд пролалии, резко противопоставляет пагубные песни языческих певцов, ведущих людей к «грубым суевериям», и спасительную песнь Логоса, «опору всего и гармонию всего», причем делает это уже не только на образном уровне, но и оценивая обе песни по результатам их действий; тем самым задается этико-религ. модальность увещевания. В «изложении» (διήγησις; narratio), следующем традиц. разделе (Clem. Alex. Protrept. 1. 6. 1 - 1. 10. 1), К. А. предлагает краткий обзор христ. учения о Логосе как Творце, Учителе и Промыслителе, повествует о пророческих предсказаниях Боговоплощения и о спасительных плодах вочеловечения Бога, причастником к-рых может стать человек. Переходя к разделу «предложение» (πρόθεσις; propositio), К. А. кратко формулирует цель всего увещевания: человек, желающий «увидеть Бога и стать участником богоугодных очищений», призывается найти Иисуса Христа и следовать за Ним, т. к. Он «единственный дает возможность узреть Бога» (Clem. Alex. Protrept. 1. 6. 1 - 1. 10. 1).
После обозначения протрептической цели, к-рым завершается 1-я гл. «Увещевания к язычникам», К. А. в главах 2-11 предлагает пространное и сложное по структуре обоснование выдвинутого им тезиса о том, что христианство является единственной спасительной религией (Clem. Alex. Protrept. 2. 11. 1 - 11. 117. 5); это обоснование соответствует разделу «доказательство» (πίστις; argumentatio) традиц. риторических речей. Поскольку К. А. ориентировался на особую структуру протрептической речи, традиц. 2 части доказательства, «утверждение» (πίστωσις; confirmatio) и «опровержение» (ἔλεγχος; refutatio), с целью большего увещевательного эффекта меняются местами: критика ложного учения (апотрептика, т. е. отвержение) предшествует изложению истинного (протрептике). Кроме того, К. А. намеренно сглаживает противопоставление отрицательной и утвердительной частей: во-первых, он вводит переходный раздел, в котором рассматриваются свидетельства философов и поэтов об истинном Боге, существовавшие внутри ложной языческой религии, а также пророческие предвозвещения полноты истинного знания о Боге, открытого в НЗ; во-вторых, он создает многочисленные параллели между частями, используя в утвердительной части понятия и образы отрицательной части в переосмысленном и христианизированном виде.
Отрицательная часть, посвященная критике языческой религии, занимает главы 2-4 «Увещевания к язычникам» (Clem. Alex. Protrept. 2. 11. 1 - 5. 66. 5). Во 2-й гл. К. А. рассматривает и подвергает язвительным насмешкам содержание и символику языческих мистерий и мистериальных обрядов, заявляя, что они связаны с самыми низменными и постыдными человеческими страстями; по словам К. А., даже нек-рые из язычников, несправедливо называемые безбожниками, смогли увидеть бессмысленность такого богопочитания и осудить его (Ibid. 2. 11. 1 - 2. 24. 4). Далее К. А. переходит к рассмотрению мифов; он осуждает языческую мифологию преимущественно с этической т. зр., отмечая, что содержащиеся в мифах многочисленные противоречия, нелепости и непристойности убедительно свидетельствуют, что мифы являются суеверными выдумками, в к-рых оказались отражены все заблуждения и пороки создавших их людей (Ibid. 2. 25. 1 - 2. 41. 4). В 3-й гл. К. А. выдвигает предположение, что мн. боги язычников в действительности являются не просто выдуманными фигурами, но искушающими людей бесами, поскольку требуют от своих почитателей «душегубства и человекоубийства», т. е. человеческих жертвоприношений (Ibid. 3. 42. 1 - 3. 43. 4). Во 2-й ч. 3-й гл. К. А. переходит к рассмотрению внешних форм языческого богопочитания; он начинает его с рассмотрения храмов и указывает, что мн. из них по своему происхождению суть гробницы, поэтому почитающие в действительности чтят не богов, а могилы (Ibid. 3. 44. 1 - 3. 45. 5). Вся 4-я гл. посвящена критике почитания статуй богов, т. е. идолопоклонства в собственном смысле (Ibid. 4. 46. 1 - 4. 62. 4); в соответствии с христ. традицией К. А. заявляет, что поклонение статуям либо является поклонением бесам, одушевляющим эти статуи, либо есть суеверное почитание «мертвой материи, преображенной рукой мастера» (Ibid. 51. 3-6). Завершается 4-я гл. протрептической вставкой, подводящей итог всему отрицательному разделу; в ней К. А. призывает язычников перейти от суеверного почитания природы и материи к религиозному поклонению «единственному подлинному Богу», Творцу всего (Ibid. 4. 63. 1-5).
В отрицательно-утвердительной переходной части, занимающей главы 5-8, К. А. рассматривает пути познания истинного Бога, существовавшие у язычников и у иудеев до явления в мир Логоса. В 5-й гл. К. А. приводит ложные мнения философов о Боге, в т. ч. отождествление божественного начала со стихиями или некими философскими категориями (Ibid. 5. 64. 1 - 5. 66. 5). В 6-й гл. этому противопоставляются обнаруживающиеся у нек-рых философов истинные представления о единстве Бога; наибольших похвал К. А. здесь удостаивает Платона (Ibid. 6. 67. 1 - 6. 72. 5). Как и некоторые раннехрист. апологеты (см. напр.: Iust. Martyr. I Apol. 44, 59-60), К. А. заявляет, что знание о Боге греки почерпнули у варварских народов; так, по его словам, «истинные законы и представления о Боге» были получены Платоном от евреев (Clem. Alex. Protrept. 6. 70. 1; обзор теории заимствования в раннехрист. лит-ре и у К. А. см.: Ridings. 1995. P. 9-140; Löhr. 2000). Продолжая демонстрацию того, что язычникам было доступно знание о едином Боге, в 7-й гл. К. А. приводит изречения поэтов, которые упоминали о Боге как о едином Творце и Правителе мира и критиковали народные представления о богах (Clem. Alex. Protrept. 7. 73. 1 - 7. 76. 6). Наконец, в 8-й гл. К. А. рассматривает наиболее совершенную форму дохристианского знания о Боге - «пророческие писания» (Ibid. 8. 77. 1 - 8. 80. 5). К. А. ссылается как на языческое «прорицание Сивиллы» (Ibid. 77. 2), так и на высказывания пророков ВЗ, через которых говорил Св. Дух, прямо указывавший устами пророков на истинного Бога (Ibid. 8. 78. 1; 9. 82. 1).
К утвердительной части, занимающей главы 9-11, К. А. переходит в конце 8-й - начале 9-й гл., используя лейтмотивы «спасительной песни» и «увещевающего Слова», Которое призывает обратиться от ложного богопочитания к истинной религии (Ibid. 8. 81. 1 - 9. 82. 3). Обильно цитируя НЗ, в 9-й гл. К. А. обращается непосредственно к увещеванию (неск. раз используя сам этот термин), отчасти ведя его от лица Логоса, открывающего в Свящ. Писании Свой благой замысел о человеке и готовность принять всех, ищущих спасения (Ibid. 9. 82. 4 - 9. 84. 6). Следуя нормам протрептической речи, К. А. подробно описывает те блага, которые ожидают откликнувшихся на увещевание людей; у них будет изобиловать благодать, они получат полноту истинного знания, достигнут спасения и т. д. (Ibid. 9. 85. 1 - 9. 88. 3). Продолжая увещевание в 10-й и 11-й главах (Ibid. 10. 89. 1 - 11. 117. 5), наполненных прямыми протрептическими обращениями к аудитории, К. А. параллельно перечисляет предлагаемые христианством спасительные блага и критикует языческую религию как обычай, т. е. укоренившуюся привычку, призывая язычников преодолеть лень, безразличие, косность, неразумие и не уклоняться от выбора, определяющего их вечную участь. Вновь упоминая о различных негативных аспектах языческой религиозности, К. А. уже не просто осуждает их, как в отрицательной части, но показывает их христ. альтернативу, постоянно убеждая сделать выбор в пользу христианства. Явившийся в мир Божественный Логос, по словам К. А., будучи истинным Богом, открыл «безмерную пучину благ» (Ibid. 10. 110. 3); Он есть Свет, просвещающий всю вселенную, «Логос истины, Логос нетления, возрождающий человека и возводящий его к истине, побуждающий к спасению, изгоняющий тление, прогоняющий смерть, воздвигший в людях храм, чтобы вселить в людей Бога» (Ibid. 11. 117. 4).
Последний раздел протрептической речи, соответствующий традиц. риторическому «заключению» (ἐπίλογος; peroratio) и занимающий гл. 12 (Ibid. 12. 118. 1 - 12. 123. 2), К. А. отделяет от основной части «Увещевания к язычникам» с помощью повторного обращения к мифическим образам, тем самым создавая внутреннюю параллель перорации с пролалией и эксордием; здесь вновь повторяются основные темы и выводы сочинения. Имитируя обращение к герою Одиссею и прорицателю Тиресию, олицетворяющим античную культуру и религию, К. А. призывает их пройти путь от заблуждения в многобожии к подлинным мистериям единого Бога (Ibid. 12. 118. 1 - 12. 119. 3). Предлагая краткое символическое описание и гимническое восхваление христ. мистерий, К. А. осуществляет оправдание и христианское переосмысление мистериального опыта и самого термина «мистерии», для к-рого ранее в отрицательной части он предлагал уничижительные этимологии (см.: Ibid. 2. 13. 1-2). Отметив, что прошедший мистериальное посвящение, т. е. присоединившийся к христ. Церкви, человек становится другом Божиим и усыновляется Богу, уподобляясь Ему во всех поступках и во всей жизни, К. А. завершает «Увещевание к язычникам» повторным призывом увидеть, какая религия приносит подлинную пользу человеку, и избрать жизнь, а не гибель (Ibid. 12. 123. 2).
Наряду с линейной риторической структурой в смысловой композиции «Увещевания к язычникам» исследователи обнаруживают также 3-частную мистериальную структуру, к-рая повторяется в 3 основных разделах (propositio, argumentatio и peroratio). В «Увещевании к язычникам» К. А. следует схеме мистериального посвящения, в неявном виде определяющей ход рассуждения в нек-рых диалогах Платона, в частности в «Федре» и в «Пире» (о текстуальных следах влияния Платона см.: Butterworth. 1916; Isart Hernández. 1993); впосл. эта схема будет использована К. А. и в «Строматах» (см., напр.: Clem. Alex. Strom. VII 10. 56. 7 - VII 10. 57. 1). Путь человеческого разума к истине начинается с «очищения» (κάθαρσις; ср.: Clem. Alex. Proterpt. 1. 10. 3 (καθαρσίων)), т. е. критического отвержения ложных мнений и заблуждений; за ним следует «посвящение» (μύησις; см.: Ibid. 12. 120. 1 (μυούμενος); Ibid. 2 (μυοῦ)), т. е. первичное последовательное изложение истинного учения с учетом его отличий от лжеучения; завершает путь «созерцание» (ἐποπτεία; см.: Ibid. 1. 10. 3 (ἐποπτεύεται); Ibid. 12. 120. 1 (ἐποπτεῦσαι)), т. е. соприкосновение с Богом в мистическом единении (см.: Riedweg. 1987. S. 143; Lechner. 2007. S. 211-218). Движение к истинной религии, предлагаемое К. А., также трехчастно: оно начинается с отвержения ложных представлений о богах, продолжается по мере принятия и усвоения истинного христ. учения о Боге и Его отношении к человеку и завершается вхождением в Церковь, т. е. таинством Крещения, в к-ром происходит первичное благодатное соединение человека и Бога, открывающее путь к богопознанию и обожению. Соединяя в «Увещевании к язычникам» риторику и ритуал, К. А., подобно Платону, наделяет текст не только протрептической, но и гипомнематической (т. е. напоминающей) функцией. Этой двойной функцией объясняется насыщенность «Увещевания к язычникам» цитатами из ВЗ и НЗ и богословскими положениями христ. Предания, мн. из к-рых в том виде, в каком их предлагает К. А., без дополнительных пояснений являются заведомо недоступными пониманию язычников, которым формально адресовано сочинение (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 1. 9. 1 - 1. 10. 1). Эти вкрапления в действительности выполняют двойственную функцию. Язычников они погружают в пространство христ. мысли, предлагая принять на интуитивном уровне религ. учение, к-рое впосл. будет преподано им дискурсивно и последовательно. Вместе с тем К. А. показывает с их помощью, что он адресует сочинение не только язычникам, но и тем христианам, к-рые, живя в языческом мире, нуждаются в том, чтобы посредством рационального припоминания, т. е. возвращения к уже известному, более глубоко понять соотношение христианского и языческого мировоззрений и найти возможные пути ответа на вызовы язычества (Lechner. 2007. S. 220-221).
Богословское содержание «Увещевания к язычникам» выражается преимущественно с помощью понятий и образов, к-рые К. А. заимствует из Свящ. Писания или соотносит с текстами Писания. Хотя в «Увещевании к язычникам» К. А. не предлагает систематического изложения христ. вероучения, он кратко затрагивает мн. важные вопросы христ. богословия (попытку тематической систематизации богословского учения «Увещевания к язычникам» см.: Galloni. 1986. P. 53-148). Сочинение предоставляет богатый материал исследователям богословия К. А.: в нем развивается учение о Боге как Творце всего и Промыслителе (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 5. 65. 4; 6. 69. 1-4; 10. 105. 1); затрагиваются вопросы триадологии и христологии, в т. ч. излагается учение о Логосе, Сыне и Слове Бога, подчеркивается Его связь с Отцом и утверждается Его божество (см.: Ibid. 1. 7. 1; 9. 82. 5; 10. 98. 3-4; 10. 110. 1); предлагаются элементы учения о творении (см., напр.: Ibid. 1. 5. 1; 1. 6. 4; 4. 53. 1-3), религ. антропологии (см., напр.: Ibid. 10. 98. 2-4; 11. 111. 1) и сотериологии (см., напр.: Ibid. 1. 6. 2; 1. 7. 3-6; 1. 8. 4; 9. 84. 5-6; 9. 88. 2-3; 10. 110. 1-3; 12. 122. 1-4). Тематическое и образное богатство «Увещевания к язычникам» делает это сочинение важным источником сведений об античной культуре и религии: здесь содержатся и аллегорические толкования, и бытовые наблюдения, и этимологические изыскания, и пересказы мифов, и описания культовых практик, храмов и статуй; К. А. приводит многочисленные цитаты из античных поэтов, комедиографов, трагиков, мифологов, историков, философов (ср.: Братухин. 2006. С. 21-22).
2. «Педагог» (Παιδαγωγός; Paedagogus; CPG, N 1376; PG. 8. Col. 247-684; SC. 70, 108, 158; критическое изд.: Clem. Alex. Werke. 19723. Bd. 1. S. 89-292; рус. пер.: Педагог. 1890. 1996п), в 3 книгах. Точное время создания сочинения неизвестно; вероятнее всего, оно было написано К. А. сразу после «Увещевания к язычникам»; по датировке Меа - ок. 197 г. (Méhat. 1966. P. 54). Как по форме, так и по содержанию «Педагог» является непосредственным продолжением «Увещевания к язычникам». В основе литературной формы «Педагога» также лежит классическая риторическая речь, однако вслед. значительного объема сочинения и многочисленных вставок-экскурсов речевая форма размывается и усложняется, теряя строгую структуру. Оставаясь беседой со слушателями, «Педагог» вместе с тем сближается по способу организации материала с античными философскими трактатами, посвященными последовательному раскрытию некой темы. В тексте «Педагога» заметны резкие переходы и смысловые разрывы между нек-рыми тематическими разделами, а также стилистическая неровность, проявляющаяся в совмещении правильной и цветистой риторической речи с сухим философским рассуждением и сложной аллегорической экзегезой. Это позволяет предполагать, что К. А. объединил в этом сочинении материалы цикла катехизических речей, произнесенных им в разное время, вероятно, опираясь на собственные заметки или записи слушателей; при этом окончательная лит. обработка была менее тщательной, чем в «Увещевании к язычникам» (ср.: Brackett. 1986. P. 135-159, 179-183).
О содержательном и тематическом преемстве по отношению к «Увещеванию к язычникам» свидетельствует открывающее «Педагог» упоминание о «прекрасном увещевании», к-рое достигло своей цели, т. е. привело язычников к вере: «Уже положено основание истины для нас, дети; [положен] неразрушимый основный камень гностического познания для святого храма великого Бога, прекрасное увещевание (προτροπὴ καλή), [произведшее] стремление к вечной жизни, благодаря рассудительному послушанию утвержденное в разумной почве» (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 1). В ряде докритических изданий (в т. ч. в PG) эти слова ошибочно считались завершением «Увещевания к язычникам» и помещались после этого сочинения (см.: PG. 8. Col. 245-246; ср. рус. пер.: Увещание к эллинам. 1888. Стб. 180; по этой причине в рус. изданиях «Педагога» эта фраза отсутствует). Ранняя рукописная традиция, однако, однозначно свидетельствует, что это предложение относится к тексту «Педагога» (в рукописи Laurent. Plut. 5. 24 предложение помещено после общего оглавления 1-й кн. и перед заглавием 1-й гл. 1-й кн., т. о. образуя пролог ко всему сочинению; в рукописи Mutin. gr. 126 оно находится после заглавия 1-й гл. 1-й кн.; чтению последней рукописи следуют издания Штелина и Марковича). Т. о., в «Педагоге» К. А. обращается к людям, уже имеющим твердую уверенность в истинности христианства, однако еще не усвоившим христ. образ жизни (Stählin. 1934. S. 22), предлагая им «очерк христианского нравоучения, руководство в частной и общественной христианской жизни по идеалу Христа» (Сагарда. 2004. С. 418).
В исследовательской литературе остается дискуссионным вопрос о том, адресовано ли сочинение К. А. недавно крещенным христианам из язычников, еще не вполне расставшимся с языческим образом жизни, или проходящим катехизацию язычникам, только готовящимся принять таинство Крещения (обзор см.: Pujiula. 2006. S. 84-94). По мнению А. И. Марру, придерживавшегося 1-й т. зр., аудиторией сочинения К. А. являются новообращенные христиане, которые уже «вошли в Церковь» и «получили возрождение» в таинстве Крещения (Marrou. 1960. P. 7-8). Согласно Марру, гипотезу о том, что «Педагог» является лит. отражением бесед, к-рые К. А. проводил с новокрещеными христианами, подтверждают упоминания К. А. катехизического научения как чего-то завершившегося и косвенные указания на уже состоявшееся принятие аудиторией таинства Крещения (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 25. 1 - I 6. 30. 2; К. А. часто употребляет здесь и в др. местах «Педагога» глаголы, связанные с принятием крещения, в прошедших временах; эта особенность оказалась искаженной в некоторых переводах, в т. ч. и в рус. переводе; ср.: Knauber. 1972. S. 318-319). Весомые доводы в пользу 2-й т. зр., впервые обоснованной Х. Виндишем (Windisch. 1908. S. 439-448), предложил Кнаубер (Knauber. 1972). По его мнению, используя в «Педагоге» местоимение «мы», в нек-рых контекстах недвусмысленно относящееся к уже крещенным христианам, К. А. прибегает к распространенному в риторике приему непосредственной коммуникативной идентификации оратора с теми, к кому он обращается. В «Педагоге», как ранее в «Увещевании к язычникам» (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 61. 1-4), К. А. иногда противопоставляет христиан, обозначаемых местоимением «мы», язычникам, на к-рых указывает местоимение «вы» (см., напр.: Paed. II 10. 98. 3). Однако, поскольку в «Педагоге» он обращается к тем, кто уже уверовали и по духу являются христианами, противопоставление «мы» и «вы» сглаживается; К. А. одновременно отождествляет себя посредством местоимения «мы» со слушателями и выступает при использовании местоимения «вы» как транслятор наставляющей речи Логоса-Воспитателя (см. наиболее характерные места: Paed. I 5. 18. 4; I 6. 32. 4; I 9. 83. 2-3; II 12. 120. 1-6; II 12. 129. 1; III 2. 9. 1-4; III 8. 41. 1-3; III 12. 86. 1-2; III 12. 97. 3; III 12. 98. 1; полные таблицы употребления местоимений см.: Brackett. 1986. P. 103-134). Такая стратегия позволяет К. А., используя местоимение «мы», подчеркивающее принадлежность слушателей и проповедника к единой христ. церковной общине, говорить о предстоящем для катехизируемых таинстве Крещения как об уже совершившемся (Knauber. 1972. S. 319-322). Поскольку обе точки зрения поддержаны серьезными аргументами, наиболее вероятной представляется примиряющая их гипотеза о том, что постоянным фоном для рассуждений К. А. в «Педагоге» является событие крещения в идеализированном виде; поскольку на духовно-мировоззренческом уровне катехизируемые уже имеют веру и вполне готовы к крещению, К. А. упоминает о крещении в прошедшем времени как об уже состоявшемся событии, тогда как в реальности катехизические наставления, отраженные в «Педагоге», могли в зависимости от особенностей церковной катехизической практики как предшествовать крещению, так и преподаваться непосредственно после него. Возможно, «Педагог» К. А. отражает происходившую в его время трансформацию связанного с крещением катехизического научения: если в раннехрист. времена катехизация была непродолжительной и основное научение происходило уже после крещения, то в III-IV вв. в христианских общинах прослеживается тенденция к увеличению длительности предкрещального катехизического научения, к-рое могло продолжаться неск. лет.
Общий замысел и цель написания «Педагога» были сформулированы К. А. при упоминании этого сочинения в начале 6-й кн. «Стромат»: в «Педагоге», по его словам, «показано воспитание и вскармливание от состояния детей, то есть создание такого устроения жизни (πολιτείαν), которое возрастает вместе с верой, беря начало от катехизического научения (ἐκ κατηχήσεως) и предуготовляя к принятию гностического знания (εἰς ἐπιστήμης γνωστικῆς παραδοχήν) добродетельную душу у тех, кто намереваются войти в число мужей» (Clem. Alex. Strom. VI 1. 1. 4). Тематическую и композиционную организацию «Педагога» проясняет открывающее трактат подробное рассуждение о действиях Логоса, к-рым соответствуют этапы и формы христ. научения. Согласно К. А., практическая жизнь человека подразделяется на 3 области: область «нравов» (ἠθῶν), область «действий» (πράξεων) и область «страстей» (παθῶν; Paed. I 1. 1. 1; такое же деление предлагается в «Поэтике» Аристотеля - Arist. Poet. 1. 1447a28; в смысловом отношении это деление является перенесением в область практической философии изложенного в диалоге «Государство» учения Платона о 3 началах души - разумном (рассуждающем), волевом (яростном, т. е. ориентированном на действие) и страстном (вожделеющем); см.: Plat. Resp. 439b-441d). Заботясь о спасении человека, Логос действует в каждой из этих 3 областей; в 1-й Он предстает как «увещевающий» (προτρεπτικός), во 2-й - как «советующий» (ὑποθετικός), в 3-й - как «успокаивающий» (παραμυθητικός). В различении этих действий К. А. следовал как стоической традиции (см.: Seneca. Ep. 95. 65, излагается учение стоика Посидония; анализ соответствия и корректировку неточной интерпретации Штелина см.: Marrou. 1960. P. 10-14; ср. также: Sext. Pyrrh. I 69-72, в отношении значения παραμυθητικός), так и общим воспитательным и учебным принципам эллинистической эпохи, к-рые отражены, напр., в предложенном платоником Евдором Александрийским (I в до. Р. Х.) делении философии (сохранилось в передаче Стобея: Stob. Anthol. II 7. 2. 64-133; обзор традиции см.: Slings. 1995). Поскольку 1-я, увещевательная, деятельность Логоса была предметом «Увещевания к язычникам», в «Педагоге» К. А. предлагает учение о Логосе как руководителе действий и укротителе страстей, т. е. как о Воспитателе; т. о., у К. А. 2-й и 3-й виды деятельности Логоса оказываются совмещены и отнесены к Логосу-Педагогу. Для обозначения воспитательной деятельности Логоса К. А. использует 2 класса эпитетов, отражающих ее составные части: с т. зр. положительной побуждающей деятельности Логос является «советующим» (ὑποθετικός), или «паренетическим» (παραινετικός), т. е. дающим моральные предписания и рекомендации; с т. зр. отрицательной ограничительной деятельности Логос является «успокаивающим» (παραμυθητικός) или «врачующим» (θεραπευτικός) страсти, т. е. показывающим их неразумность и предлагающим способы их преодоления, в т. ч. c использованием бытовых и исторических примеров (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 4 - I 1. 3. 2; ср.: Ibid. 3. 8. 3).
Ориентируясь на возможные интерпретации понятия «педагог», К. А. определяет задачи воспитывающего Логоса, одновременно являющиеся и задачами соч. «Педагог» (ср.: Marrou. 1960. P. 14-21; Сидоров. 1998. С. 69-71). Педагог, согласно первоначальному значению этого слова,- это тот, кто ведет детей к учителю, т. е. «детоводитель» (ср.: ἡ παιδαγωγία παίδων ἐστν ἀγωγή - Clem. Alex. Paed. I 5. 12. 1); задача Логоса-Педагога также состоит в подведении детей, т. е. новоначальных христиан, к принятию догматического церковного учения, а результатом Его деятельности является приведение к Логосу-Учителю души, к-рая «очищена для гностического познания» и «способна принять откровение Логоса» (Ibid. 1. 3. 3). Во времена К. А. педагог нередко являлся не только провожатым, но и воспитателем, следившим за усвоением учеником норм общественной и частной жизни; Логос-Педагог также предлагает правила христ. повседневной жизни и обосновывающие их этические принципы. Характеризуя деятельность воспитывающего Логоса-Педагога в целом, К. А. использовал популярную в платонизме и стоицизме аналогию между наставником и врачом, отмечая, что «как при телесной болезни требуется врач, так и душевная немощь требует Педагога», Который «подготавливает больных к полному выздоровлению для истины» (Ibid. I 1. 3. 3; ср., напр.: Epict. Diss. III 23. 30-38). Еще одна интерпретация связана со словами ап. Павла: «...закон был для нас детоводителем (παιδαγωγός) ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя» (Гал 3. 24-25). Согласно К. А., единый Логос проявляется в многообразии действий: в ВЗ его воспитательное действие выражалось в Законе, который готовил людей к явлению Иисуса Христа, побуждая их вести добродетельную жизнь; в НЗ Логос-Педагог также требует от христиан морально безупречного образа жизни. При этом К. А. в отличие от ап. Павла, говорящего о том, что явление веры освобождает от власти педагога-детоводителя, т. е. Закона, полагал, что воспитательная функция Логоса, проявлявшаяся в Законе, не отменяется, но видоизменяется в христианстве. Педагогом в ВЗ и в НЗ является тот же Логос, однако если в ВЗ Он действовал через посредников (Моисея и пророков), то в НЗ Он воспитывает христиан Сам, как Своим учением, так и посредством таинственного общения «лицом к лицу», происходящего внутри христ. Церкви (см.: Clem. Alex. Paed. I 7. 55. 2; I 7. 57. 1-4). При этом разработанные в мельчайших деталях моральные предписания, предлагаемые К. А. во 2-й и 3-й книгах «Педагога», по своей функции оказываются точным христ. отображением и переосмыслением многочисленных практических установлений ВЗ. В выходящем за пределы традиц. словоупотребления его времени расширительном смысле К. А. называет «Божественной педагогикой» (ἡ κατὰ τὸν θεὸν παιδαγωγία) не только преподание конкретных наставлений, но весь в целом процесс христ. практического воспитания, длящееся до конца земной жизни «верное следование за истиной, приводящее к созерцанию Бога» (Clem. Alex. Paed. 7. 54. 1). Такая педагогика, согласно К. А.,- это «прямая дорога, возводящая на небеса» (Ibid. 7. 53. 3). Т. о., хотя в деятельности Логоса-Педагога более всего нуждаются новоначальные христиане, Он остается практическим Наставником и для опытных христиан. Тем самым, как и в случае «Увещевания к язычникам», К. А. неявно придает соч. «Педагог» гипомнематическую (т. е. напоминающую) функцию, адресуя его помимо непосредственной аудитории тем христианам, которые по различным причинам уклонились от следования практическим нормам религ. этики и побуждая их заново пройти путь христ. воспитания.
Исследователи нередко указывали на то, что пространные и сложные по содержанию богословские рассуждения 1-й кн. «Педагога» плохо сочетаются в композиционном отношении с следующими далее во 2-й и 3-й книгах конкретными наставлениями (см., напр.: Marrou. 1960. P. 22). Однако в действительности композиция «Педагога» глубоко продумана: по убеждению К. А., теоретическое содержание 1-й кн. должно быть усвоено до практических рекомендаций, поскольку христиане призваны не просто формально исполнять моральные предписания, но понимать их педагогическую, т. е. спасительную природу, и соотносить их с знанием о Логосе как об их высшем источнике (Quatember. 1946. S. 42-43). Поэтому в 1-й кн. «Педагога» К. А. излагает учение о Логосе-Педагоге, о природе и методах Его воспитательной деятельности, а также о тех, на кого направлена эта деятельность, т. е. о христианах как «детях» (общую композиционную схему см.: Ibid. S. 43-46; анализ основных понятий см.: Glad. 2004). После занимающего 1-ю гл. вводного общего рассуждения о действиях Логоса (Clem. Alex. Paed. I 1. 1. 1 - I 1. 3. 3) К. А. в главах 2-4 (Ibid. I 2. 1. 1 - I 4. 11. 2) описывает действия Логоса как истинного Бога, безгрешного и бесстрастного, Устроителя и Владыки мироздания, ставшего истинным Человеком и потому заботящегося о всех людях. Как Бог, Логос имеет власть прощать грехи людей; как совершенный Человек, он является Врачом, исцеляющим последствия грехов, и Педагогом, воспитывающим в людях добродетели. По утверждению К. А., человеколюбивая забота Логоса одинаково распространяется на мужчин и женщин; т. к. оба пола совместно ведут христ. жизнь, у них «общая благодать, общее спасение, общая добродетель и общее воспитание» (Ibid. 4. 10. 2). Отмечая, что оба пола одинаково обозначаются именем «человек», К. А. вспоминает также аттическое слово παιδάριον, к-рое обозначало ребенка как муж., так и жен. пола (Ibid. 4. 11. 1); это позволяет ему перейти ко 2-му смысловому блоку 1-й кн., к рассуждению о христианах как детях. Тема «детства» подробно разрабатывается в 5-й гл. (Ibid. I 5. 12. 1 - I 5. 24. 4); здесь К. А. приводит различные слова, используемые в Свящ. Писании для обозначения детей - «дети» (παῖδες), «малые дети» (παιδία), «младенцы» (νήπια) - и, толкуя соответствующие отрывки из ВЗ и НЗ, показывает, что детство и младенчество в Свящ. Писании обычно понимаются как нечто положительное, как состояние невинности и чистоты (Ibid. 5. 17. 1), пребывающим в к-ром свойственны кротость, прямодушие, простота, правдивость и др. добродетели (ср.: Ibid. 5. 19. 1-3). Пространную и весьма сложную по содержанию 6-ю гл. (Ibid. I 6. 1. 1 - I 6. 52. 3.) К. А. посвящает полемике с представителями гностицизма, употреблявшими понятие «младенчество» в уничижительном смысле для указания на несовершенство богопознания, к-рым обладают обычные христиане, не достигшие «духовного» гносиса. Отвергая существование к.-л. сущностных различий между христианами, К. А. утверждает, что в таинстве Крещения, к-рое есть «новое рождение», всем «младенцам» даруется одинаковый свет познания Бога и залог совершенства, к-рое в полноте достигается лишь в будущей жизни (Ibid. 6. 27. 3). Важное место в рассуждении К. А. занимает экзегетическое исследование вопроса о том, как следует понимать слова ап. Павла из Первого послания к Коринфянам: «...я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею... потому что вы еще плотские» (1 Кор 3. 1-3), к-рые гностики использовали для обоснования учения о принципиальном различии между несовершенными «плотскими» и совершенными «духовными» христианами. В экзегетическом экскурсе (Clem. Alex. Paed. I 6. 34. 3 - I 6. 51. 1) К. А. исходит из убеждения, что «молоко» и «твердая пища» - это один и тот же Логос, дарующий Себя христианам в разных формах: «Многообразно аллегорически изображается (ἀλληγορεῖται) Логос; и твердая пища, и плоть (σάρξ), и еда (τροφή), и хлеб, и кровь, и молоко - все это Господь, [предлагающий Себя] для вкушения нам, уверовавшим в Него» (Ibid. 6. 47. 2). Соединяя физиологические наблюдения и символико-аллегорическое толкование Свящ. Писания, К. А. соотносит молоко с евхаристическими Телом и Кровью Иисуса Христа; он подчеркивает, что в силу совершенства питающего Логоса христиане всегда питаются совершенной пищей, ведущей их к вечной жизни. В 7-й гл. (Ibid. I 7. 53. 1 - I 7. 63. 3), возвращаясь к основной теме 1-й кн., К. А. продолжает последовательное изложение учения о Логосе-Педагоге в Его отношении к людям. Подчеркивая единство Логоса, действовавшего в ВЗ, и Иисуса Христа, являющегося Пастырем и Воспитателем христиан, К. А. предлагает обзор воспитательной деятельности Бога в ВЗ. Продолжая рассуждение, в 8-й гл. (Ibid. I 8. 62. 1 - I 8. 74. 4) К. А. вступает в дискуссию с еретиками (предположительно, последователями Маркиона), которые «говорили, что Господь не благ», т. к. Он прибегает к наказанию, угрозе и устрашению, и приводили многочисленные примеры, заимствуемые из книг ВЗ (Ibid. I 8. 62. 1). Отвечая на это, К. А. указывает, что человеколюбие Логоса очевидно из Боговоплощения, поэтому и наказания, налагаемые Господом на грешников, следует понимать сообразно Его человеколюбию, как врачебные средства, через страдания приводящие душу к здоровью, т. е. к спасению (ср.: Ibid. 8. 65. 1-2). Рассмотрение отговаривающих (ἀποτρεπτικόν) средств, к-рые использует Логос-Педагог, К. А. продолжает в 9-й гл. (Ibid. I 9. 75. 1 - I 9. 88. 3), где предлагается список укоряющих «способов воспитания», к числу которых К. А. относит внушение, укоризну, упрек, вразумление и т. п.; названия способов и их описание К. А. заимствует преимущественно из Свящ. Писания. В 10-й гл. (Ibid. I 10. 89. 1 - I 10. 95. 2) К. А. переходит к описанию увещевающих (προτρεπτικόν) средств, т. е. метода указания на проистекающие от добродетели благо и пользу. К. А. подчеркивает взаимосвязь и необходимость совмещения 2 родов воспитательных средств, служащих «приобретению добра и бегству от зла» (Ibid. 10. 94. 3). В главах 11-13 (Ibid. I 11. 96. 1 - I 13. 103. 5), выполняющих функцию заключения и одновременно подготавливающих к практическому содержанию 2 следующих книг, К. А. подчеркивает, что Иисус Христос, Сын Божий, являющийся истинным, благим и правосудным Логосом-Педагогом, хочет воспитать подобного Себе человека (см.: Ibid. 12. 98. 1-4). Согласно К. А., предписания Логоса-Педагога не произвольны, но разумны и согласны с природой; напротив, грех - это «все, что противно правильному разуму» (πᾶν τὸ παρὰ τὸν λόγον τὸν ὀρθόν - Ibid. 13. 101. 1). Поскольку предписания добродетели соответствуют природе человеческого разума (логоса), мн. из них были известны философам (Ibid. 13. 102. 2); однако для христианина «обязанность» (καθῆκον; К. А. использует классическое стоическое понятие) задается не его собственным разумом, но формируется как постоянное расположение воли, к-рая сообразуется и соединяется с Богом на протяжении всей жизни человека и благодаря этому «успешно достигает вечной жизни» (Ibid. 13. 102. 4). В силу того что рациональные правила повседневной жизни, известные и язычникам, в христианстве переосмысляются и интерпретируются в свете спасительной деятельности Логоса, они становятся педагогикой, «приспособленной для достижения спасения» (Ibid. 103. 2), и управляют всей «совокупностью (σύστημα) разумных действий» человека (Ibid. 102. 4).
Во 2-й и 3-й книгах «Педагога» К. А. предлагает практические предписания и советы, определяя в мельчайших деталях, какой должна быть повседневная жизнь христианина. По большей части эти предписания касаются не жизни души и связанных с ней высших христ. добродетелей, а внешней, «телесной» жизни (подробный анализ 2-й и 3-й книг «Педагога» как руководства, нормирующего жизнь тела, см.: Pujiula. 2006). Причину этого К. А. поясняет в кратком предисловии ко 2-й кн.: опираясь на платоническую традицию, он различает душу, тело и внешние вещи (см.: Clem. Alex. Paed. II 1. 1. 1-2; ср.: Ibid. 10. 102. 3). В обычной языческой жизни верное соотношение между этими 3 областями нарушено, т. к. тело служит внешним вещам, а душа служит телу. Обращение в христианство, согласно К. А., полагает начало процессу восстановления правильного иерархического и гармонического соотношения: человек «должен перестать заботиться о внешних вещах» и начать «просвещать око души и очищать тело», подчиняя телесные потребности разуму (логосу), а заботу о внешних вещах соизмеряя с упорядоченными телесными потребностями (Ibid. 1. 1. 2). Тело является посредником между душой и внешним миром, а связанные с поддержанием телесной жизни заботы определяют содержание необходимой повседневной деятельности человека, поэтому, после того как в душе человека совершилось обращение в христианство, это обращение должно найти отражение в телесной жизни, т. е. должен начаться процесс разумного «руководства» (κατευθύνειν) телом, методику к-рого К. А. и предлагает во 2-й и 3-й книгах «Педагога» (Pujiula. 2006. S. 116-120). Хотя К. А. не объясняет принципов, к-рыми он руководствовался при систематизации практических предписаний, из его слов (см.: Clem. Alex. Paed. II 8. 76. 1; III 4. 26. 1; 9. 46. 1) следует, что он придерживался определенного плана. Наиболее убедительную гипотезу о том, каким был этот план, выдвинул Кватембер, предположивший, что К. А. излагает правила повседневной жизни в последовательности «вечер - ночь - утро - день» (общую схему см.: Quatember. 1946. S. 48-50). При этом нередко К. А. уклоняется от основного хода рассуждения и предлагает экскурсы, содержащие гл. обр. духовную и богословскую интерпретацию нек-рых практических моральных принципов.
Вторая книга «Педагога», согласно схеме Кватембера, открывается изложением норм, относящихся к продолжительной вечерней трапезе, к-рая нередко превращалась в роскошный прием гостей; этому изложению посвящены главы 1-8, образующие 1-ю ч. 2-й кн. (Clem. Alex. Paed. II 1. 1. 1 - II 8. 76. 5). В 1-й гл. (Ibid. II 1. 2. 1 - II 1. 18. 4) К. А. рассуждает о пище, рекомендуя умеренность и воздержанность и осуждая тягу к дорогим, экзотическим и изысканным кушаньям. Отдельный экскурс (Ibid. II 1. 4. 3 - II 1. 8. 2) он посвящает христ. совместной вечерней трапезе, агапе (вечери любви), отмечая, что подобные вечери не должны превращаться в пиры; еда на них предлагается лишь как внешний знак духовного единства христиан. Переходя во 2-й гл. (Ibid. II 2. 19. 1 - II 2. 34. 4) к рассуждению о питье, К. А. одобряет умеренное употребление вина и отвергает чрезмерный аскетизм тех, кто призывали вовсе не пить вина; в экскурсе К. А. упоминает о связи вина с евхаристической Кровью Христовой (Ibid. II 2. 19. 3-4 - II 2. 20. 1-2). Предметом 3-й гл. (Ibid. II 3. 35. 1 - II 3. 39. 4) является используемая для еды домашняя утварь, а также в целом предметы домашнего обихода; К. А. призывает отказываться от роскошных вещей и выбирать посуду и предметы интерьера, ориентируясь на их функцию, а не на внешнее великолепие и дорогую цену. В главах 4-8 (II 4. 40. 1 - II 8. 76. 5) излагаются правила благопристойного поведения на званых трапезах; К. А. осуждает здесь любовь к чувственной музыке, неумеренный смех и насмешки, непристойные шутки и разговоры, а также употребление для украшения тела духов, помад и венков. В контексте рассуждения о венках К. А. предлагает экзегетический экскурс, рассуждая о терновом венце Иисуса Христа и о связанной с ним библейской символике (Ibid. II 8. 73. 3 - II 8. 75. 2). В 9-й гл. (Ibid. II 9. 77. 1 - II 9. 82. 3), открывающей 2-ю ч. 2-й кн., К. А. переходит к изложению предписаний, относящихся к ночной жизни; он критикует роскошь постельных принадлежностей, а также неодобрительно отзывается о привычке к чрезмерно продолжительному сну. Большую часть пространной 10-й гл. (Ibid. II 10. 83. 1 - II 10. 102. 2) занимает рассуждение К. А. о ночных отношениях супругов и в целом о нормах, регламентирующих половую жизнь. К. А. подчеркивает, что целью супружеской близости является деторождение, а не сладострастие, и призывает обуздывать разрушающую душу человека тягу к удовольствиям; он решительно осуждает гомосексуальные отношения, подчеркивая их противоестественный характер; о женщинах, совершающих аборт, он говорит, что «вместе с плодом они теряют все, что в них было человеческого» (Ibid. 96. 1). В завершающей части 10-й гл. (Ibid. II 10. 102. 2 - II 10. 115. 5) К. А. переходит от ночного к утреннему разделу, занимающему 3-ю ч. 2-й кн. и 1-ю ч. 3-й кн.; в нем излагаются нормы, касающиеся одежды и др. средств украшения внешнего вида (косметики и т. п.). После вводного рассуждения, в к-ром, ссылаясь на Евангелие, К. А. подчеркивает, что христианин должен во всем руководствоваться принципами естественности и целесообразности, рассматриваются виды одежды; К. А. осуждает использование редких и дорогих тканей и соблазнительных фасонов. В 11-й гл. (Ibid. II 11. 116. 1 - II 11. 117. 4) тему надлежащего внешнего вида продолжает рассуждение об обуви; в 12-й гл. (Ibid. II 12. 118. 1 - II 12. 129. 4) К. А. говорит об украшениях из золота и драгоценных камней.
Третья книга открывается занимающим 1-ю гл. (Ibid. III 1. 1. 1 - III 1. 3. 3) экскурсом, в к-ром ложной внешней красоте противопоставляется душевная красота «человека, в котором живет Логос»; такой человек «уподобляется Богу и является прекрасным, хотя не украшает себя» (Ibid. 1. 5). Продолжая во 2-й и 3-й главах (Ibid. III 2. 4. 1 - III 3. 25. 3) рассуждения о внешнем виде, К. А. рассматривает средства украшения внешности, используемые женщинами и мужчинами, критикует «искусство наведения красоты» во всем многообразии его проявлений и подчеркивает, что христиане во внешнем виде должны стремиться к естественности, не искажая облик, данный им Творцом. Переходя в 4-й гл. (Ibid. III 4. 26. 1 - III 4. 30. 4) от утреннего к дневному разделу, К. А. начинает его с критики праздности, распущенности и бесцельного времяпрепровождения; он осуждает использование многочисленных рабов и слуг для удовлетворения суетных потребностей, праздные разговоры, роскошные прогулки на носилках. В 5-й и 9-й главах (Ibid. III 5. 31. 1 - III 5. 33. 3; III 9. 46. 1 - III 9. 48. 3) К. А. особо останавливается на банях, которые совместно посещали мужчины и женщины. По убеждению К. А., бани, бывшие центром социальной жизни, оказываются у язычников сценой для непристойного поведения, а также местом, где всякий пытается поразить окружающих богатством и роскошью; христианину допустимо посещать бани лишь в интересах чистоты и здоровья. Внутри рассуждения о банях помещен пространный экскурс, занимающий главы 6-8 (Ibid. III 6. 34. 1 - III 8. 45. 2); в нем со ссылками на Свящ. Писание К. А. излагает учение о надлежащем христ. отношении к богатству, осуждает роскошь и восхваляет умеренность (возможно, этот отрывок изначально представлял собой отдельную беседу, не вполне удачно вставленную в текст К. А.). В 10-й гл. (Ibid. III 10. 49. 1 - III 10. 52. 2) К. А. рассматривает в качестве альтернативы баням гимнастические тренировки, подчеркивая их пользу для тела, и призывает не пренебрегать физическим трудом тех, у кого есть возможность им заниматься. В заключительном разделе «Педагога» К. А. предлагает краткое повторение и дополнение рекомендаций, касающихся дневной жизни и поведения в обществе, к-рые занимают 11-ю гл. и 1-ю ч. 12-й гл. (Ibid. III 11. 53. 1 - III 12. 86. 2). Вновь напоминая, что все изложенные правила по своему содержанию восходят к заповедям Логоса, К. А. во 2-й ч. 12-й гл. (Ibid. III 12. 87. 1 - III 12. 96. 4) приводит для подтверждения этого подборку отрывков из Свящ. Писания; он цитирует как общие предписания, в т. ч. лежащую в основании христ. нравственности заповедь о любви к Богу и ближнему, так и многочисленные высказывания из ВЗ и НЗ, относящиеся к частным вопросам морали и практической жизни. В 3-й ч. 12-й гл. (III 12. 97. 1 - III 12. 100. 3) К. А. отмечает, что подробное толкование Свящ. Писания и раскрытие его духовного смысла - это задача не Логоса-Педагога, а Логоса-Учителя; педагогика завершается вхождением в Церковь, где христиане становятся учениками Логоса (Ibid. 98. 1). В восторженных выражениях восхваляя воспитательную деятельность Логоса, К. А. призывает слушателей прославить «блаженное домостроительство» (μακαρίαν οἰκονομίαν), посредством к-рого человек «воспитывается, освящается как дитя Божие и благодаря полученному на земле воспитанию приобретает небесное гражданство, получая на небесах Отца, о Котором узнал на земле» (Ibid. 99. 1). Завершается 12-я гл. и все сочинение молитвой Логосу, в к-рой соединяются мотивы прошения, благодарения и хвалы (Ibid. III 12. 101. 1-2), а также призывом приносить «вечную дань благодарения» Господу, Который как Педагог вводит избранных Им детей в Церковь и принимает их в ней как Логос-Учитель (Ibid. 101. 3).
И при критике языческой бытовой морали, и при изложении положительных норм христианской нравственности К. А. учитывал историческую ситуацию и ориентировался на тот образ жизни, к-рый сложился в совр. ему Александрии, торговом и культурном центре античного мира, в котором роскошь и излишества были доступны мн. жителям. Из содержания предписаний К. А. следует, что они были обращены к богатым людям, к-рые могли позволить себе роскошную пищу, вина, домашнюю утварь, украшения, рабов и т. п. (Pujiula. 2006. S. 94-102). Описывая жизнь и привычки александрийского языческого общества, К. А. не скупился на критику; он с горечью восклицал: «...в настоящее время жизнь достигла крайней невоздержанности вследствие распространения недозволительного; по городам разлилось всякого рода непотребство и стало едва ли не законом... Распущенность все сдвинула с места, утонченная и сладострастная суетность обесчестила человека; она ищет всего, пробует все, кидается на все, извращает природу» (Clem. Alex. Paed. III 3. 21. 2). Вместе с тем ригоризм К. А. не был абсолютным, а моральные требования - чрезмерными; К. А. никогда не призывал слушателей к фанатичному аскетизму и безусловному воздержанию от всех вещей, доставляющих удовольствие, подчеркивая важность рассудительности (σωφροσύνη), приводящей человека к разумной умеренности и гармонии во всем (см.: Ibid. II 1. 13. 3; II 10. 100 2; III 7. 37-40; ср.: Marrou. 1960. P. 55-56).
Положительные рекомендации и критические наблюдения, представленные в «Педагоге», являются важнейшим источником сведений о мн. аспектах повседневной жизни Александрии во 2-й пол. II в. Указывая на подробные рассуждения К. А. о жен. «ложной красоте» и значительное число рекомендаций, ориентированных исключительно на женщин, исследователи заключают, что в кругу слушателей катехизических наставлений К. А. преобладали состоятельные александрийские женщины (Jakab. 2001. P. 126-129). Мн. рекомендации имеют предметом семейную жизнь, что позволяет ученым, опираясь на материал «Педагога», предпринимать попытки реконструкции быта и обычаев типичной александрийской христ. семьи II в. (см.: Broudéhoux. 1970. P. 178-193). П. Гюссен, в монографическом исследовании систематизировавший все встречающиеся в «Педагоге» сведения о жизни александрийцев, пришел к выводу, что сообщения К. А. согласуются с данными др. исторических источников, редко представляют собой риторические и моралистические преувеличения и в большинстве случаев дают весьма точную историко-культурную информацию (Gussen. 1955). Однако в совр. лит-ре такая оптимистическая оценка подвергается корректировке: вслед. того что при работе над практической частью «Педагога» К. А. опирался на совр. ему философско-паренетическую литературу, заимствовал материал из античных источников и намеренно прибегал к широким обобщениям, использование «Педагога» К. А. как исторического источника должно быть критическим и осторожным (ср.: Marrou. 1960. P. 86-91; Jakab. 2001. P. 258-261).
На сильную зависимость текста 2-й и 3-й книг К. А. от стоических источников одним из первых аргументированно указал Вендланд, осуществивший сопоставление «Педагога» с фрагментами этических бесед стоика Гая Музония Руфа (I в.), учителя Эпиктета (I-II вв.), которые сохранились в передаче Стобея, а также с др. стоическими сочинениями по этике (см.: Wendland. 1886; ср. также: Parker. 1901). Как показало исследование Вендланда, во 2-й и 3-й книгах «Педагога» К. А. имеется большое число неоговариваемых дословных заимствований из бесед Музония Руфа, а также множество текстовых и смысловых параллелей с учением Хрисиппа (III в. до Р. Х.), Луция Аннея Сенеки (I в.), Эпиктета и др. стоиков. Предположив, что заимствования имели систематический характер и что К. А. активно использовал не только известные ныне, но и несохранившиеся стоические тексты, Вендланд сделал вывод, что К. А. всецело зависел в области практической философии от стоиков и эпигонски переписывал стоические наставления, лишь вставляя в них подходящие библейские цитаты и христ. нравоучения. Радикальная т. зр. Вендланда была оспорена многими патрологами и историками; в наст. время в науке преобладают более осторожные оценки степени зависимости К. А. в «Педагоге» от предшествующей традиции философской этики (см.: Stählin. 1934. S. 25; Pohlenz. 1943. S. 508; Marrou. 1960. P. 50-52). Признавая, что в «Педагоге» заметно сильное влияние стоицизма, к-рый во II в. предлагал наиболее развитую, популярную и близкую к христ. принципам систему философской этики и паренетики (подробнее о влиянии стоической этики на К. А. см.: Stelzenberger. 1933; Spanneut. 1957. P. 107-111, 231-266), исследователи указывают, что К. А. опирался не только на стоические, но и на платонические этические и воспитательные идеи, творчески синтезируя различные философские стратегии с опорой на собственную христ. мировоззренческую систему. По мнению Кватембера, даже дословно заимствуя некоторые положения из стоических и платонических сочинений, К. А. помещал их в христ. контекст, нередко наполнял новым смыслом и неизменно подчинял высшей цели христ. воспитания - уподоблению Богу (см.: Quatember. 1946. S. 73-84). Предлагая моральные наставления, К. А. в «Педагоге» осваивал и христианизировал традицию эллинизированного иудаизма, отраженную в учительных книгах греч. ВЗ (LXX); так, он обильно цитирует Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова (из 61 цитаты у К. А. 53 встречаются в «Педагоге» и лишь 8 - в «Строматах»; ср.: Stählin. 1901. S. 46). При работе над «Педагогом» К. А. использовал и сочинения Филона Александрийского, к-рый в области практической философии также совмещал почерпнутые из стоицизма и платонизма этические принципы с религ. учением ВЗ. Т. о., в «Педагоге» К. А. предлагает не внешний, но органичный и глубоко продуманный синтез христ. этики, основывающейся на учении ВЗ и НЗ, с лучшими достижениями языческой паренетики, к-рый служит достижению его основной педагогической задачи: воспринимая привычные для них паренетические наставления философов в свете этических основоположений христианства, обратившиеся в христианство язычники постепенно и естественно вводятся в христ. общину и усваивают христ. мировоззрение. Как и в «Увещевании к язычникам», К. А. нередко предлагает в «Педагоге» слушателям предвосхищающее изложение нек-рых теоретических богословских истин христианства; наибольшую важность с т. зр. исследования богословия К. А. представляют содержащиеся в сочинении христологические и сотериологические положения (см., напр.: Clem. Alex. Paed. I 2. 4. 1-2; I 2. 6. 1; I 3. 7. 1-3; I 6. 43. 1-4; I 8. 74. 4; I 12. 98. 1-4), а также рассуждения о таинствах Крещения (см.: Ibid. I 6. 25-30) и Евхаристии (см.: Ibid. I 6. 39. 1; I 6. 46. 1-2; II 2. 19-20; попытку систематизации богословского и этико-религ. учения «Педагога» см.: Quatember. 1946. S. 85-155).
После основного текста в рукописях «Педагога» (за исключением «кодекса Арефы») следуют 2 гимна (текст 1-го см.: Clem. Alex. Werke. Bd. 1. S. 291-292; SC. 158. P. 192-203; текст 2-го см.: PG. 9. Col. 681; совр. рус. пер. гимнов см.: Педагог. 1996. С. 286-290; 1-й гимн был впервые переведен на рус. язык Филаретом (Гумилевским), архиеп. Черниговским: Исторический обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви. СПб., 1860. С. 49-51). Первый гимн озаглавлен: «Гимн Спасителю Христу святого Климента» (῞Υμνος τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ ἁγίου Κλήμεντος). Вероятнее всего, он был действительно написан К. А.; гимн содержит 65 стихов и имеет сложный размер, состоя из неск. систем на основе анапеста с некоторыми неправильностями и вкраплениями др. размеров (Stählin. 1905. S. LXXVI. Not. 2; Idem. 1934. S. 26; Marrou H. I., Irigoin J. Note additionnelle // SC. 158. P. 204-207). Второй гимн, состоящий из 28 стихов и написанный обычным для христ. поэзии шестистопным ямбом, не имеет заглавия; его автором, по мнению совр. ученых, является не К. А., а неизвестный визант. читатель «Педагога». По содержанию «Гимн Спасителю Христу» является поэтической разработкой основного лейтмотива «Педагога»: он содержит восхваление отождествляемого с Иисусом Христом Логоса, Который ведет христиан «небесным путем» к вечному блаженству; при этом для обозначения Логоса используются образы и имена, встречающиеся в тексте «Педагога» (Узда, Кормило, Пастырь и т. п.), а также обыгрываются некоторые темы этого сочинения (анализ текста см.: Смирнов. 1879). «Гимн Спасителю Христу» мог использоваться К. А. и его учениками в качестве «школьного песнопения», т. е. частной молитвы, однако предположение о его богослужебном употреблении в александрийской христ. общине маловероятно.
3. «Строматы» (Στρωματεῖς; Stromata; CPG, N 1377; PG. 8. Col. 685-1382; 9. Col. 9-602; SC. 30, 38, 278-279; 428, 446, 463; критическое изд.: Clem. Alex. Werke. 19854. Bd. 2. S. 3-518 (Lib. I-VI); Ibid. 19702. Bd. 3. S. 3-102 (Lib. VII-VIII); рус. пер.: Строматы. 1892 (кн. I-VIII); То же. 2003 (кн. I-VII)), в 8 книгах. То, что «Строматы» уже в ранней рукописной традиции состояли из 8 книг, подтверждается свидетельствами еп. Евсевия Кесарийского (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 1) и свт. Фотия, патриарха К-польского (Phot. Bibl. 111). При этом, как сообщает свт. Фотий, в его время 8-я кн. присутствовала лишь в некоторых рукописях «Стромат», тогда как в др. рукописях после 7-й кн. сразу следовало соч. «Кто из богатых спасется?» (Phot. Bibl. 111); т. о., уже у визант. переписчиков были сомнения в принадлежности 8-й кн. к «Строматам». Рукопись Laurent. Plut. 5. 3 относится к 1-му типу и содержит 8-ю кн.; ее заглавие здесь не отличается от заглавия др. книг: «Стромата восьмая» (στρωματεὺς ὄγδοος - Laurent. Plut. 5. 3. Fol. 346v), а первые слова совпадают с цитатой у свт. Фотия. Вопрос о том, действительно ли текст, известный ныне как 8-я кн. «Стромат», был включен в состав сочинения самим К. А., остается предметом научных дискуссий.
Текст «Стромат» свидетельствует, что К. А. работал над этим произведением длительное время; в исследовательской лит-ре предлагались различные и нередко противоречащие друг другу описания процесса создания «Стромат» и датировки книг сочинения. Надежная и относительно точная дата создания может быть дана только для 1-й кн. «Стромат». Она основывается на том, что К. А. завершает здесь изложение рим. хронологии упоминанием смерти имп. Коммода (Clem. Alex. Strom. I 21. 144. 1, 5; 145. 5). Т. о., над 1-й кн. К. А. работал в начале правления имп. Септимия Севера, т. е. после 193 г.; этот вывод был сделан еще еп. Евсевием Кесарийским (Euseb. Hist. eccl. VI 6). Для датировки 6-й и 7-й книг «Стромат» определяющее значение имеет сделанное на основании исследовательской работы А. ван ден Хук (Hoek. 1988) заключение Д. Руниа, к-рый обратил внимание на то, что в этих книгах почти отсутствуют цитаты и заимствования из сочинений Филона Александрийского (за исключением использования К. А. трактата «Вопросы на книгу Бытия»); по мнению Руниа, это свидетельствует о том, что при написании этих книг К. А. не имел доступа к собранию сочинений Филона, т. к. уже покинул Александрию (Runia. 1993. P. 144; ср.: Hoek. 1988. P. 197-208; Eadem. 1997. P. 84). Согласно традиц. гипотезе, к-рую принимали большинство исследователей кон. XIX-1-й пол. XX в., К. А. работал над «Строматами» до конца жизни; он не успел завершить сочинение и оставил ряд подготовительных материалов, впосл. присоединенных к тексту «Стромат» (см.: Arnim. 1894. P. 15; Faye. 1898. P. 109-111; Harnack. 1904. S. 18). Во 2-й пол. XX - нач. XXI в. эта гипотеза неоднократно оспаривалась: напр., Меа предположил, что работа над «Строматами» продолжалась со 193 по 203 г.; по его мнению, сочинение не было закончено не из-за смерти К. А., а по причине того, что он переключился на написание «Очерков» (Méhat. 1966. P. 54, 516-522; ср.: Nautin. 1976. P. 293-298). Несмотря на значительное число альтернативных датировок и построений, традиц. гипотеза не имеет серьезных изъянов и остается наиболее простым и убедительным объяснением незавершенного характера «Стромат». С вопросом о датировке «Стромат» тесно связан вопрос о хронологическом отношении «Стромат» к «Увещеванию к язычникам» и «Педагогу». Традиц. т. зр., согласно к-рой «Строматы» были написаны после «Увещевания к язычникам» и «Педагога», была в нач. XX в. оспорена Вендландом, Хойсси, Гарнаком и др. учеными, которые сочли, что, упоминая в «Педагоге» уже написанное им сочинение «О воздержании» (Clem. Alex. Paed. II 10. 94. 1) и «более глубокое рассуждение» о надлежащем христ. отношении к телу (Ibid. 6. 52. 2), К. А. ссылался на соответствующие разделы в «Строматах» (Strom. II 20 103. 1 - IV 26. 172. 3; III 1. 1. 1 - III 18. 110. 1), и заключили, что книги 1-4 «Стромат» были написаны до «Педагога», и, возможно, до композиционно связанного с ним «Увещевания к язычникам». В качестве косвенного подтверждения исследователи указывали на то, что ссылки на «Увещевание к язычникам» и «Педагог» присутствуют в 6-й (Clem. Alex. Strom. VI 1. 1. 4) и в 7-й книгах «Стромат» (Ibid. VII 4. 22. 3); при этом в ранних книгах «Стромат» у К. А. было также достаточно поводов сослаться на эти сочинения, если бы они были уже написаны (см.: Heussi. 1902. S. 474-478; Harnack. 1904. S. 9-11). Это мнение было оспорено Штелином (Stählin. 1934. S. 29-35), Меа (Méhat. 1966. P. 50-54) и мн. др. исследователями; в наст. время большинство ученых принимают традиц. последовательность создания сочинений. Вместе с тем невозможно отрицать тематический параллелизм, существующий между «Увещеванием к язычникам» и 1-м смысловым блоком «Стромат», строящимся вокруг темы соотношения религии и философии, веры и знания (1-я кн. и начало 2-й кн.), а также между «Педагогом» и 2-м смысловым блоком «Стромат», в к-ром преимущественно рассматриваются вопросы христ. этики и ведется полемика с гностиками (окончание 2-й кн. и 3-я кн.). Это позволяет предполагать, что работа над «Строматами» началась одновременно с работой над «Увещеванием к язычникам» и шла параллельно работе над «Педагогом» (ср.: Mondésert. 1951. P. 21), причем К. А. нередко разбирал в «Строматах» на более глубоком уровне те проблемы, с которыми сталкивался при работе над 2 «популярными» сочинениями. В начинающемся с переходной 4-й кн. 3-м смысловом блоке «Стромат», к-рый строится вокруг начертания портрета истинного гностика, К. А. завершает разбор тем, связанных с «Педагогом», и переопределяет программу «Стромат» как самостоятельного лит. проекта, единственной целью которого становится изложение учения о христ. «гносисе» (ср.: Clem. Alex. Strom. IV 1. 1-3). При этом в 4-й кн. подробно разрабатывается почти не встречавшаяся у К. А. ранее тема мученичества (см., однако: Ibid. II 20. 125. 2), возможно, ставшая актуальной вследствие гонений имп. Септимия Севера. Т. о., хронология 3 главных сочинений К. А. может быть выстроена следующим образом: между 190 и 200 гг.- «Увещевание к язычникам», «Педагог», книги 1-3 «Стромат»; между 200 и 210 г.- книги 4-5 «Стромат»; после 210 г.- книги 6-7 «Стромат».
Поскольку 1-й лист рукописи Laurent. Plut. 5. 3 утрачен, полное название сочинения восстанавливается по внутренним отсылкам в самих «Строматах» (см.: Clem. Alex. Strom. I 29. 182. 3; III 18. 110. 3; V. 14. 141. 4; VII 18. 111. 4), а также по свидетельствам еп. Евсевия (Euseb. Hist. Eccl. VI 13. 1) и свт. Фотия. Наиболее подробным является заглавие, приводимое свт. Фотием, к-рое, по его словам, он обнаружил в древней рукописи: «Тита Флавия Климента, пресвитера Александрийского, [книги] 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я Стромат гностических памятных заметок согласно истинной философии» (Τίτου Θλαβίου Κλήμεντος, πρεσβυτέρου ᾿Αλεξανδρείας, τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων στρωματέων α, β, γ, δ, ε, (?), ζ κα η - Phot. Bibl. 111). Полное заглавие выражает общий замысел и основную цель К. А. при написании «Стромат» и указывает на важнейшие композиционные и тематические особенности сочинения. Слово στρωματεύς (ед. ч.) или στρωματεῖς (мн. ч.) использовалось в качестве заглавия сочинений и до К. А.; так, несохранившиеся произведения с таким заглавием были у рим. грамматика нач. II в. Луция Цезеллия Виндекса (см.: Prisc. Inst. VI 18) и у Плутарха (см.: Euseb. Praep. evang. I 7. 16). Авл Геллий, приводя в предисловии к соч. «Аттические ночи» (создано до 180) различные заглавия, использовавшиеся для сочинений, авторы к-рых «отовсюду собирали пеструю, смешанную и как бы неоднородную ученость», упоминает и заглавие «Строматы» (см.: Aul. Gell. Noct. Praef. 4-9). В повседневном аттическом греч. языке слово στρωματεύς употреблялось редко и обозначало постельное покрывало; в эллинистическом греч. языке добавилось также значение мешка или чехла для постельных принадлежностей (Pollux. Onomast. VII 79). Поскольку такие покрывала и мешки нередко сшивались из разных тканей или лоскутов, в переносном смысле στρωματεύς стало обозначать нечто полосатое или пестрое. В этом значении оно было названием экзотической рыбы с золотистыми полосками на теле, о к-рой сообщает Афиней (II-III вв.) в соч. «Пир мудрецов» (Athen. Deip. VII 118; Афиней упоминает здесь еще одно название полосатой рыбы, к-рое являлось одновременно названием лит. смеси - сальпа, σάλπη). Т. о., наиболее близким к прямому значению заглавия «Строматы» является рус. перевод «Покрывала», а к переносному значению - «Пестрая смесь» (подробнее о значениях см.: Mondésert. 1951. P. 7-9; Méhat. 1966. P. 96-106). К. А. неск. раз предлагает в «Строматах» пояснения того, как он понимал избранное им заглавие; так, он сравнивает «Строматы» с луговыми цветами и плодовыми деревьями в лесу, растущими без видимого порядка, и замечает: «Очерки наших Стромат, подобно лугу, украшены и расцвечены тем, что случайно пришло на память, что не подвергалось упорядочиванию ни в отношении последовательности, ни в отношении стиля, что намеренно рассеивалось вперемежку» (Clem. Alex. Strom. VI 1. 2. 1). К. А. подчеркивает, что внешняя пестрая и беспорядочная форма «Стромат», заявленная в заглавии, предохраняет содержащиеся в сочинении богословские истины от «расхищения», т. е. от профанирующего и насмешливого цитирования и обсуждения теми читателями, к-рые, находясь вне христ. Церкви, не могут увидеть внутреннюю гармоничность христ. учения и обращают внимание лишь на внешние формулировки: «Пусть наши памятные записки... из-за беспечных и неопытных читателей, будут, как говорит о том и само их название, разостланы словно пестрые покрывала (ποικίλως διεστρωμένα), [и выглядят как] непрестанно переходящие от одной темы к другой и в построении рассуждений открывающие посредством указания на что-то одно нечто другое» (Clem. Alex. Strom. IV 2. 4. 1; ср.: Ibid. I 12. 55-56; IV 2. 6-7). Т. о., в названии сочинения К. А. оговаривает для себя свободу изложения материала; он не отказывается вообще от всякого плана, но уклоняется от характерной для философских трактатов стратегии последовательного и полного раскрытия заранее заданных тем и избирает менее жесткую и обязывающую форму литературной смеси. Относя с помощью заглавия свое сочинение к популярному в его время виду светской литературы, К. А. предлагает любопытствующим и поверхностным читателям внешнюю форму занятных заметок на разные темы, тогда как для того, кто готов «трудиться для достижения гносиса» (ср.: Ibid. VI 1. 2. 2-3), в «Строматах» открывается замаскированная беспорядочной формой последовательная и логичная система христ. мировоззрения. Не менее важными для понимания замысла сочинения являются и др. слова, входящие в полное заглавие. Понятие ὑπομνήματα в эллинистической лит-ре использовалось как обозначение сочинений, характерной особенностью которых было желание автора письменно изложить нечто, сохраненное в его памяти: исторические факты, наставления учителей, собственные наблюдения и размышления и т. п. При этом ὑπομνήματα были не последовательными «воспоминаниями», но записывавшимися по случаю «памятными заметками», к-рые не имели строгой структуры и при написании к-рых использовался намеренно небрежный вольный стиль изложения (подробнее см.: Méhat. 1966. P. 106-112). Применяя это слово к своему сочинению, К. А. подчеркивает двойную функцию «памятных заметок»: по его словам, они являются как воспоминаниями, т. е. средством восстановления в памяти и передачи предания, полученного им от его христ. учителей, так и напоминаниями, обращенными к себе самому и к читателям, функцией которых является предохранение важного религ. содержания от забвения (см.: Clem. Alex. Strom. I 1. 11-14). Используя в качестве эпитета для «памятных записок» прилагательное «гностические», К. А. обыгрывал его неск. значений. В нейтральном философском значении это прилагательное указывает на то, что тема теоретического познания, тождественного у К. А. религ. «гносису», является постоянным фоном, на к-ром разворачиваются рассуждения «Стромат»; К. А. выступает здесь в защиту христианского рационализма и акцентирует важность использования всех способностей разума для поиска и постижения истины. Вместе с тем во времена К. А. понятие «гносис» оказалось присвоено приверженцами «лжеименного знания» (ср.: 1 Тим 6. 20), т. е. членами псевдохристианских и еретических групп гностиков, которые противопоставляли доступный лишь избранным высший духовный гносис якобы «несовершенному» и «простому» традиц. христианству с его догматикой и этикой. Вслед. этого у мн. христ. писателей «гностическое знание» подвергалось критике и отвергалось как чуждое и враждебное христианству. Называя «гностическими» свои «памятные заметки», содержащие обширную полемику с разного рода гностиками, К. А. тем самым демонстрирует желание очистить представление о высшем духовном познании от еретических интерпретаций и представить в качестве альтернативы противостоящему традиц. христ. Церкви гностицизму подлинный христ. гностицизм, к-рый является вершиной практической христ. жизни и вырастает из нее. На общее мировоззренческое основание, определяющее методологию «Стромат», К. А. указывает с помощью входящего в заглавие пояснения - «согласно истинной философии». Истинная философия для К. А.- это философия в изначальном смысле «любви к мудрости», т. е. стремление к рациональному постижению вечной божественной истины (определения христ. философии см.: Clem. Alex. Strom. VI 7. 54. 1; 55. 1-2; ср. также: Ibid. I 7. 37. 6). Отождествляя истинную философию с христ. мудростью и вводя это понятие в заглавие, К. А. свидетельствует о том, что его задачей является интерпретация в свете христ. Откровения, т. е. Свящ. Писания и церковного Предания, тех достижений античной философии, к-рые могут принести пользу христианам в деле рационального осмысления истин веры, т. е. в разработке христ. философии. Т. о., на основании заглавия может быть дана общая характеристика сочинения К. А.: «Строматы» есть свободное по форме рациональное изложение и осмысление открытых в Свящ. Писании и истолкованных в церковном Предании христ. истин; при этом целью К. А. является демонстрация того, что христианство есть высшая философия, истинная мудрость, подлинный гносис, а в силу этого - единственный путь, приводящий к соединению с Богом (ср.: Сагарда. 2004. С. 419).
Определение лит. формы и композиционной структуры «Стромат» затрудняется заявленной К. А. «пестротой» сочинения. Исследователи кон. XIX - нач. XX в. нередко указывали на хаотичное представление материала в «Строматах» и предлагали различные объяснения этого (обзор основных гипотез см.: Méhat. 1966. P. 23-35; Roberts. 1981. P. 211-212). Преодолевающее такой подход основательное исследование особенностей «Стромат» как цельного лит. произведения было осуществлено Меа, к-рый, совместив структурный и тематический анализ, продемонстрировал взаимосвязь формы и содержания «Стромат» и выявил мн. существенные формальные характеристики сочинения (Méhat. 1966). Сопоставление «Стромат» с сочинениями греч. и лат. светской лит-ры, являвшимися сборниками разного рода воспоминаний, размышлений, историй, философских рассуждений и т. п., свидетельствует о наличии как определенных черт жанрового сходства, так и серьезных отличий. Как и античные авторы, К. А. сводит в форме одного сочинения разнородные части, каждая из которых обладает собственной тематической цельностью и собственными особенностями. При этом К. А. во многом отходит от канонов построения лит. «смеси», которые могут быть прослежены, напр., в соч. «Аттические ночи» Авла Геллия. В отличие от языческих авторов К. А. не привлекает внимания читателей к собственной личности; некоторые размышления личного характера присутствуют лишь в начале «Стромат», но и они дают лишь общее и туманное представление об авторе сочинения. Используя литературную форму, имевшую подчеркнуто личный характер и предполагавшую обилие личных наблюдений и оценок, К. А. намеренно обезличивает и объективирует ее. Несмотря на тематическую и стилистическую пестроту «Стромат», К. А. в них никогда не сообщает чего-либо исключительно ради развлечения читателей или удовлетворения их любопытства; богатство цитат и иллюстраций он использует для обоснования тех или иных положений излагаемого им учения. По технике представления материала «Строматы» имеют выраженный философский характер и строятся по законам, характерным для философских рассуждений эллинистической эпохи, в к-рых формулировка собственного мнения неизменно сопровождалась рассмотрением мнений предшествующих авторов, вынесением критической оценки или комментирующим принятием их в качестве истинных. При этом по способу аргументации «Строматы» отличаются от классических философских произведений античности, т. к. в качестве средства предельного обоснования предлагаемых для принятия тезисов в них используется не рациональное доказательство, а дидактико-риторическая ссылка на авторитет, т. е. на учение Свящ. Писания и церковного Предания. Т. о., К. А. намеренно создает диалектическую напряженность между внешней свободой формы и внутренней необходимостью помещаемого в эту форму содержания, тем самым понуждая читателя двигаться от равнодушного знакомства с новыми для него сведениями к осознанию их экзистенциальной значимости.
Поясняя общий принцип организации материала в «Строматах», К. А. отмечал: «Желая поддержать свою слабую память, я пользуюсь по необходимости формой этого очерка, составляя для самого себя обобщающее изложение главных тем (κεφαλαίων συστηματικὴν ἔκθεσιν), которое сохраняет воспоминания в памяти» (Clem. Alex. Strom. I 1. 14. 2). Используемое К. А. слово κεφάλαια, в визант. период (примерно с IV в.) получившее значение «главы», во времена К. А. имело значение «основные темы», «главное», «наиболее существенное» и обозначало основную посылку философского доказательства и основной тезис риторической речи; т. о., у К. А. оно указывает не на внешнее строение сочинения «по главам», а на его внутреннюю тематическую структурированность. «Главные темы» являлись для К. А. смысловыми центрами, тезисами положительного учения, вокруг к-рых выстраивалось подводящее к ним и разъясняющее их рассуждение. В состав отдельных рассуждений К. А. вводил разнородный материал, пользуясь методом «обобщающего изложения», т. е. ассоциативного поиска общего в идеях, высказываниях и образах, заимствуемых из различных традиций: из античной лит-ры и философии, из языческой религии, из «пророческих книг» (т. е. ВЗ), из «евангельского учения» (т. е. НЗ и возводимого к апостолам Предания), из сочинений христ. писателей, из практики церковной жизни. Организуя и упорядочивая тематические рассуждения по отдельности, «главные темы» вместе с тем являются «нитями», соединяющими между собой все тематические рассуждения в целом и задающими единство «Стромат», однако не в линейной логической последовательности, а в пересекающемся возвращении, видоизменении и нарастании, аналогичном развитию музыкальных тем (ср. образ песни Логоса в «Увещевании к язычникам»). По замыслу К. А., в процессе чтения «Стромат» повторяющиеся «главные темы» должны закрепиться в сознании читающего, к-рый, распределяя в соответствии с ними весь прочитанный материал, постепенно приближается к овладению полнотой истинного учения (ср.: Roberts. 1981. P. 216-219). Подход к «Строматам» как к последовательно разворачивающемуся нарративу обречен на неудачу, поскольку тематические рассуждения, объединенные в книгах «Стромат», в одних случаях связаны между собой по смыслу, а в др. случаях совмещены только внешне и механически. Порядок представления рассуждений в книгах во многом является произвольным; вместе с тем с тематической т. зр. очевидно движение внутри каждой из «главных тем» от простого к сложному, от внешнего к внутреннему, от очевидного к таинственному.
К. А. многократно говорит о плане «Стромат» (выборку соответствующих мест см.: Méhat. 1966. P. 36-38, 148-178), однако постоянно корректирует этот план, демонстрируя тем самым, что он руководствуется не объективной необходимостью рассмотреть законченное число тем в определенной последовательности, но субъективными потребностями, исходя из к-рых он переходит от одной темы к другой, оставляет без рассмотрения вопросы, о к-рых ранее намеревался написать, и переходит к другим, по неизвестным причинам ставшим для него более важными и насущными. Вслед. этого для корректного понимания структуры «Стромат» важно учитывать их двойственный характер: будучи «памятными заметками», к-рые К. А. составлял для самого себя, они вместе с тем обращены к некой аудитории или группе читателей. Хотя точное определение состава этой группы затруднительно (см.: Ridings. 1997; Rankin. 2005), из слов К. А. следует, что в качестве ее ядра он рассматривал «философов», объединяя под этим наименованием как имевших философские познания язычников, к-рые проявляли интерес к христианству и были готовы познакомиться с его интеллектуальной интерпретацией, так и тех христиан, к-рые, уже находясь в Церкви, в той или иной форме сталкивались с проблемой согласования философского наследия античности (и в целом принципов рационального мышления) с богооткровенным содержанием христианства (см., напр.: Clem. Alex. Strom. V 1. 1. 2-3; VI 1. 1. 1; VII 1. 1. 1-3). Как и все сочинения К. А., «Строматы» имеют ярко выраженный риторический характер. Стилистические особенности «Стромат» свидетельствуют о связи этого сочинения с реальными беседами и дискуссиями, которые К. А. вел в Александрии как христ. философ; несмотря на литературную обработку, мн. тематические рассуждения К. А. в «Строматах» близки к жанру философских лекций или речей. К. А. не просто излагает в них свои мысли, но неоднократно прямо или косвенно обращается к читателям, риторически выделяя своих единомышленников или оппонентов.
Вслед. особой композиционной структуры «Стромат» обзор их содержания может быть дан лишь в виде условного выделения преобладающих в каждой из книг «главных тем» и указания основных побочных экскурсов (общую схему содержания см.: Méhat. 1966. P. 276-279; ср. также: Строматы. 2003. Т. 1. С. 72-76). Открывающее 1-ю кн. «Стромат» введение (Clem. Alex. Strom. I 1. 1. 1 - I 2. 18. 4) К. А. посвящает изложению и обоснованию замысла сочинения. К. А. настаивает на допустимости создания богословско-учительных сочинений, замечая, что для уже утвердившихся в вере людей эти сочинения предлагают «средства к спасению» (см.: Ibid. 1. 4. 1-3), а для остальных служат указанием на путь спасения, открывающийся в истинной религии. Формулируя мотивы, подвигшие его к написанию «Стромат», К. А. ссылается как на субъективное желание «сохранить в памяти» церковное Предание, так и на объективные побуждения, связанные с необходимостью дать ответ разного рода «критикам».
В основной части 1-й кн. К. А. выделяет в качестве оппонентов представителей 2 крайностей: христ. сторонников слепой веры, утверждающих, что любое рациональное познание бесполезно, и языческих «софистов», т. е. приверженцев философии, гордящихся познаниями и презрительно относящихся к «варварской» христ. вере (см.: Ibid. I 2. 19. 1 - I 4. 27. 3). Т. о., задается общая тема «знание и вера», рассматривая которую К. А. выстраивает защиту философского, т. е. рационального, способа познания, демонстрирует пути его христианизации и излагает учение о надлежащем отношении между разумным познанием и религ. верой. Для раскрытия основной темы К. А. обращается к рассмотрению отношения между библейской мудростью и греч. философией: он предлагает интерпретацию природы философии, ее роли в образовании и ее надлежащего соотношения с религ. верой (Ibid. I 5. 28. 1 - I 11. 54. 4); рассказывает об основных этапах истории греч. философии (Ibid. I 13. 57. 1 - I 14. 65. 4); вводит и обосновывает учение о заимствовании греками всего истинного знания у варваров, в т. ч. у евреев (Ibid. I 15. 66. 1 - I 20. 100. 5); предлагает служащее для обоснования этого учения подробное изложение хронологии греч. и варварской истории (Clem. Alex. Strom. I 21. 101. 1 - I 22. 149. 3). Завершает 1-ю кн. рассуждение о Моисее и о значении данного через него Богом Закона (Ibid. I 22. 150. 3 - I 29. 182. 3); К. А. в значительной мере опирается здесь на сочинение Филона Александрийского «О жизни Моисея». Продолжая тему «вера и знание» в 1-й ч. 2-й кн., К. А. рассматривает природу и свойства религ. веры, ее отношение к знанию, ее значение для практической добродетельной жизни (Ibid. II 2. 4. 1 - II 17. 76. 7).
Поскольку вера определяет практическую жизнь человека, нормирующие к-рую правила задаются принятыми как содержание веры заповедями Божиими (Ibid. II 18. 78. 1 - II 18. 96. 3), от рассуждения о вере во 2-й ч. 2-й кн. К. А. переходит к новой общей теме «практика христианской жизни». Изложение этико-практического учения христианства К. А. соединяет с критикой ошибочных и еретических взглядов на нравственные нормы и ограничения. Заявляя, что целью жизни христианина является уподобление Богу (см.: Ibid. II 19. 97. 1-2), К. А. обозначает и кратко рассматривает во 2-й кн. темы предельной цели жизни человека, отношения к страстям и удовольствиям, воздержания, брака (Ibid. II 19 100. 1 - II 23. 147. 4). Подробное рассмотрение темы брака и воздержания К. А. предлагает в 3-й кн. (Ibid. III 1. 1. 1 - III 18. 110. 3); он критикует концепции гностиков и защищает разумную умеренность в брачных наслаждениях, выступая как против сексуальной распущенности, так и против абсолютизации воздержания. Продолжая тему «практика христианской жизни» в 4-й кн., К. А. рассматривает пути достижения христианином практического совершенства (Ibid. IV 3. 8. 1 - IV 3. 12. 5). В 1-й ч. 4-й кн. (Ibid. IV 4. 13. 1 - IV 16. 104. 2) преобладает тема мученичества; терпеливое отношение к возможным страданиям и стойкое перенесение внешних невзгод, согласно К. А., свидетельствует о достижении христианином внутреннего совершенства, связанного с любовью к Богу. Во 2-й ч. 4-й кн. (Ibid. IV 17. 105. 1 - IV 26. 172. 3) К. А. рассуждает о соотношении совершенства и гносиса, о возможности достижения гностического совершенства для женщин; предлагает предварительное описание свойств истинного гностика, останавливаясь преимущественно на присущем гностику отношении к внешним вещам и обстоятельствам.
В 5-й кн. К. А. возвращается к общей теме «знание и вера» и обобщает предшествующее изложение, подчеркивая, что истинный христ. гносис основывается на вере и всегда соотносится с ней (Ibid. V 1. 1. 1 - V 3. 18. 5). Вновь затрагивая тему заимствования греками истинного учения у варваров (Ibid. V 1. 10. 1-3; 4. 19. 1), К. А. проводит сопоставление символических учений, содержащихся в языческих религиях и в сочинениях античных писателей, с библейским символизмом (Ibid. V 4. 19. 3 - V 8. 50. 2); предлагает учение о значении символического и аллегорического методов толкования текстов для верной интерпретации священных книг, т. е. ВЗ и НЗ, а также принимаемых К. А. в качестве церковного Предания нек-рых новозаветных апокрифов и псевдоэпиграфов (Ibid. V 8. 51. 1 - V 13. 88. 5); показывает на многочисленных примерах, как эти методы, а также связанный с ними метод помещения интерпретируемого текста в иной контекст для придания ему нового смысла, могут быть использованы для демонстрации того, что в эллинской философии присутствовали проблески истинного знания о Боге, Его воле и Его отношении к миру и человеку (Ibid. V 14. 89. 1 - V 14. 141. 4). Согласно К. А., до открытия полноты истины в христианстве это знание, бывшее тайным благодеянием Божиим, служило для тех язычников, к-рые стремились к истине и благу, источником «природной праведности» (φυσικὴ δικαιοσύνη - V 14. 141. 1). Тему греч. заимствований К. А. продолжает в 1-й ч. 6-й кн. (Ibid. VI 1. 4. 1 - VI 4. 38. 12); он завершает ее утверждением, что ветхозаветная религия и языческая мудрость были одинаково промыслительно даны Богом людям, «чтобы подготовить их уши к евангельской проповеди (πρὸς τὸ κήρυγμα)» (Ibid. VI 6. 44. 1), т. е. к принятию христ. истины. После этого в кратком экскурсе К. А. излагает учение об эсхатологическом значении совершенного Иисусом Христом спасения человека (Ibid. VI 6. 44. 2 - VI 6. 52. 2).
Рассмотрев тему «знание и вера» в ее объективно-историческом содержании, К. А. во 2-й ч. 6-й кн. и в 7-й кн. (Ibid. VI 7. 54. 1 - VII 14. 88. 7) предлагает обсуждение этой же темы в субъективном аспекте, разворачивающееся в рамках новой общей темы «образец истинного гностика» (ср.: Ibid. VI 18. 168. 4). Под гностиком К. А. понимает здесь христианина, который, надлежащим образом совмещая веру и знание, достигает полноты богопознания и соединяется с Богом. Истинный гносис, т. е. познание полноты божественного Откровения, К. А. противопоставляет недостаточному и несовершенному философскому гносису, т. е. познанию, основывающемуся на собственных способностях человека (Ibid. VI 7. 54. 1 - VI 8. 69. 4). Выделяя качества истинного гностика, К. А. особо останавливается на рассмотрении гностической любви к Богу, к-рая порождает устойчивое стремление к соединению с Ним (Ibid. VI 9. 71. 1 -VI 9. 79. 2). Он рассуждает о том, какое значение могут иметь мирские науки на пути к богопознанию (Ibid. VI 10. 80. 1 - VI 11. 95. 5); предлагает учение о том, какая практическая жизнь свойственна гностику (Ibid. VI 12. 96. 1 - VI 12. 101. 2); объясняет гностический смысл молитвы и поста (Ibid. VI 12. 101. 3 - VI 12. 102. 3); интерпретирует учение о гностике в экклезиологической и эсхатологической перспективах (Ibid. VI 13. 105. 1 - VI 14. 114. 6). В экскурсе, посвященном значению символического познания для гностика (Ibid. VI 15. 115. 1 - VI 16. 148. 6), К. А., повторяя и дополняя содержание 5-й кн., излагает общие принципы аллегорического объяснения священных текстов, обосновывает необходимость использования такого способа объяснения и предлагает истолкование Десяти заповедей, показывая с помощью анализа числового символизма, что помимо прямого законополагающего смысла они имеют и тайный смысл, т. е. открывают гностическое учение о Боге и надлежащем отношении к Нему человека. В следующем далее экскурсе, завершающем 6-ю кн. (Ibid. VI 17. 149. 1 - VI 18. 168. 3), К. А. возвращается к обсуждению вопроса о происхождении и назначении философии. Продолжая описание истинного гностика в 7-й кн., К. А. начинает с экскурса, посвященного изложению богословского учения о Логосе, Сыне Божием, Который является Спасителем всех (Ibid. VII 2. 5. 1 - VII 2. 12. 5). Следуя учению Логоса и уподобляясь Ему, истинный гностик достигает сперва полного подчинения себя Богу, а затем и духовного единства с Ним (Ibid. VII 3. 13. 1 - VII 3. 21. 7). В основном разделе 7-й кн. (Ibid. VII 5. 28. 1 - VII 14. 88. 7) К. А. предлагает подробное описание пути истинного гностика к совершенству и свойственного ему образа жизни. Завершается 7-я кн. экскурсом (Ibid. VII 15. 89. 1 - VII 18. 110. 3), в котором К. А. рассуждает о природе ересей; он подчеркивает важность следования Свящ. Писанию и церковному Преданию, к-рые установлены Богом как средства для наставления людей в истинном учении и для предохранения их от уклонения в еретические лжеучения. К. А. заканчивает 7-ю кн. словами, выражающими его намерение «повести рассуждение, исходя из другого начала» в следующих книгах «Стромат» (μετὰ τὸν ἕβδομον τοῦτον ἡμῖν Στρωματέα τῶν ξῆς ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς ποιησόμεθα τὸν λόγον - Ibid. VII 18. 111. 4). Т. о., К. А. не рассматривал 7-ю кн. в качестве последней и собирался дальше работать над «Строматами». Исследователи предлагали разные гипотезы относительно того, что К. А. подразумевал под «другим началом» и в каком виде он намеревался продолжать «Строматы».
Тексты, следующие в рукописи Laurent. Plut. 5. 3 непосредственно после 7-й кн., образуют т. н. 8-ю кн. «Стромат». Эта книга представляет собой связанное тематически рассуждение, разделенное в рукописи на 3 части (общую схему содержания см.: Servino. 2001. P. 97-99). Она не имеет ни общего введения, ни заключения, в которых К. А. пояснял бы ее замысел и связь с др. книгами «Стромат»; ссылок на др. книги «Стромат» или иные сочинения К. А. в ней также нет. В 1-й ч. 8-й кн. (Clem. Alex. Strom. VIII 1. 1. 1 - VIII 5. 15. 1), не имеющей отдельного заглавия, К. А., ссылаясь на то, что евангельские слова «ищите, и найдете» (Мф 7. 7) побуждают человека использовать его разумные способности для поиска истины, предлагает учение о методе научного, т. е. философского, познания; синтезируя аристотелевскую и стоическую логику, он излагает учение об аксиомах, определениях и доказательствах. В краткой 2-й ч. 8-й кн. (Clem. Alex. Strom. VIII 5. 15. 2 - VIII 5. 16. 3), озаглавленной в рукописи «Против последователей Пиррона» (Πρὸς τοὺς Πυρρωνείους), К. А. выступает с критикой скептических заявлений о невозможности достоверного знания и научного познания; он использует рассмотренный ранее метод научного доказательства для демонстрации несостоятельности скептицизма. Перед 3-й ч. 8-й кн. помещено заглавие: «Приемы и начала исследований касаются следующего и заключаются в следующем» (Αἱ τῶν ζητήσεων ἔφοδοι κα ἀρχα περ ταῦτα κα ἐν τούτοις εἰσίν). Материал 3-й ч. (Ibid. VIII 6. 17. 1 - VIII 8. 33. 9) также имеет логический характер: здесь указывается на значение рода, вида и отличительного признака для построения определения; предлагается учение о понятии, о связи между словами и вещами, о категориях; завершается часть изложением учения о причинах и их разновидностях. Поскольку заглавие 3-й ч. повторяется после ее текста, нек-рые исследователи выдвинули предположение, что 3-я ч. в действительности не относится к 8-й кн. и является самостоятельным произведением. Аргументом в пользу этого служит то, что в рукописном сборнике антиеретических цитат (Lond. Brit. Lib. Add. 14533) сирийский перевод фрагмента, относящегося к концу 2-й ч. 8-й кн. (Clem. Alex. VII 5. 16. 2-3), вводится словами: «Из Климента, автора Стромат, в конце восьмой книги» (см.: Zahn. 1884. P. 28, 116; Stählin. 1905. S. XLI). Еще один аргумент опирается на стилистический анализ: если в 1-й и 2-й частях 8-й кн. прослеживается типичное для К. А. аттикизирующее использование оптатива, то в 3-й ч. оно исчезает. Т. о., хотя тематически 3-я ч. связана с 2 предшествующими, в данном случае может иметь место внешнее тематическое объединение разных по происхождению и назначению текстов, осуществленное уже после смерти К. А. Возможно, 1-я и 2-я части 8-й кн. действительно предназначались К. А. для продолжения «Стромат», тогда как 3-я ч. является сделанным К. А. рабочим конспектом одного или неск. популярных в его время логических учебников (см.: Scham. 1913. S. 171-173; ср.: Arnim. 1894. P. 9-13). По справедливому замечанию Н. И. Сагарды, в целом 8-я кн. посвящена обсуждению «вопросов, не имеющих специфически христианского значения» (Сагарда. 2004. С. 420); хотя автором собранных в ней текстов бесспорно является К. А., она едва ли может рассматриваться как полноценное продолжение «Стромат» (Stählin. 1934. S. 28). В совр. зап. науке попытку предложить «эзотерическое» истолкование 8-й кн. и объяснить ее связь со «Строматами» предпринял австрал. исследователь Э. Иттер (Itter. 2009). Рассматривая все сочинения К. А. как проекцию его «учительного метода», Иттер предположил, что герменевтическим ключом к этому методу является числовая символика, к-рую К. А. неск. раз обсуждает в «Строматах». Согласно сомнительной гипотезе Иттера, весь путь гностика от обращения к вере до созерцания Бога обозначается числом десять; этапам этого пути соответствуют «Увещевание к язычникам», «Педагог» и 8 книг «Стромат». В этом случае 8-я кн. является одновременно «целью» и «новым началом»: она упорядочивает содержание предшествующих 7 книг, поскольку «в свете Дня Господня логика происходит от Божественного Логоса», и готовит ум человека к созерцанию природы вещей в Боге (см.: Itter. 2009. P. 74-76). Основная слабость рассуждений Иттера состоит в том, что его заключения относительно 8-й кн. никак не выводимы из текста этой книги, в котором отсутствуют к.-л. «эзотерическое» содержание, рассуждения о гностике или о созерцании Бога. Напротив, 8-я кн. содержит множество параллелей с традиц. логико-пропедевтическими философскими трактатами вполне экзотерического содержания (выделение некоторых параллелей см.: Wedel. 1905). Подход Иттера в целом является показательным примером некорректной герменевтики, навязывающей текстам рассматриваемого автора взгляды исследователя (см. рецензию: Havrda. A. C. Itter, Esoteric Teaching. 2012; ср. также: Hoek. 2010. P. 416). Логическое содержание 8-й кн. было исследовано в работах М. Гаврды, к-рый достаточно убедительно продемонстрировал, что одним из источников выписок К. А. были сочинения медика и философа Галена (см.: Havrda. Galenus Christianus. 2011; Idem. Categories in Stromata VIII. 2012; см. также эмендации текста и комментарии к некоторым местам: Havrda. 2013).
После текстов, объединяемых в изданиях под общим наименованием 8-й кн. «Стромат», в рукописи Laurent. Plut. 5. 3 следуют еще 2 текста под отдельными заглавиями: «Извлечения из сочинений Феодота и так называемого восточного учения времен Валентина» (᾿Εκ τῶν Θεοδότου κα τῆς ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας κατὰ τοὺς Οὐαλεντίνου χρόνους ἐπιτομαί; Excerpta e Theodoto (по CPG); Excepta ex scriptis Theodoti et doctrina quae orientalis vocatur ad Valentini tempora spectantia (по PG); CPG, N 1139; PG. 9. Col. 651-698; SC. 23, 23bis2; критическое изд.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 105-133; рус. пер.: Извлечения из сочинений Феодота. 1912. (параграфы 1-26); Извлечения из произведений Теодота. 2002) и «Избранные места из пророческих писаний» (᾿Εκ τῶν προφητικῶν ἐκλογαί; Eclogae propheticae (по CPG); Ex scripturis propheticis eclogae (по PG); CPG, N 1378; PG. 9. Col. 697-728; критическое изд.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. 137-155; изд. греч. текста с итал. пер. и комментарием: Estratti profetici. 1985; рус. пер. отсутствует). Поскольку никакой отметки об окончании 8-й кн. «Стромат» в рукописи нет, «Извлечения из сочинений Феодота...» и «Избранные места из пророческих писаний» могут рассматриваться и как самостоятельные произведения (или отрывки произведений), и как части гипотетической 8-й кн. О том, что древние авторы относили к 8-й кн. «Стромат» все тексты, следующие в рукописи после 7-й кн., свидетельствует практика цитирования: в сб. «Священные параллели» и др. христ. гномологиях фрагменты из соч. «Избранные места из пророческих писаний» нередко вводятся словами «Климента, из восьмой книги Стромат» (см.: Zahn. 1884. S. 29; «Извлечения из сочинений Феодота...» в патристической лит-ре не цитировались). В совр. науке, однако, «Извлечения из сочинений Феодота...» и «Избранные места из пророческих писаний» ввиду их очевидного тематического отличия от материалов 8-й кн. и содержательной разнородности по отношению друг к другу рассматриваются преимущественно как самостоятельные тексты.
Соч. «Извлечения из сочинений Феодота...» представляет собой отрывочное изложение богословских мнений гностиков, разделенное издателями на 86 параграфов. Нек-рые из мнений К. А. сопровождает собственными критическими комментариями, но большую часть приводит без дополнительных пояснений. Упоминаемый в заглавии Валентин, влиятельный гностический учитель II в., возглавлял школу в Риме и имел значительное число последователей; критические обзоры взглядов Валентина и валентиниан давали сщмч. Ириней, еп. Лионский (см., напр.: Iren. Adv. haer. I 1-8; III 4. 3), Ипполит Римский (Hipp. Refut. VI 29-37), Тертуллиан (Tertull. Adv. Val.) и др. церковные писатели. Об особенностях учения Феодота, ученика Валентина, известно лишь от К. А.; вероятно, он был одним из ведущих представителей упоминаемой в заглавии сочинения К. А. «восточной школы» последователей Валентина, существовавшей в Александрии. Об этой школе сообщает сщмч. Ириней (Iren. Adv. haer. VI 35. 4-7), однако сведения об учении школы, приводимые им и К. А., не во всем совпадают. Вводя гностические мнения в «Извлечениях из сочинений Феодота...», К. А. использует как прямые указания на источник («Феодот говорит», «валентиниане говорят»), так и неопределенные ссылки («говорит», «они говорят»); возможно, часть мнений гностиков К. А. почерпнул из неизвестных ныне гностических сочинений, а часть восходит к устному гностическому преданию, с носителями к-рого К. А. мог встречаться в Александрии. Ввиду отрывочного характера текста не всегда можно с уверенностью определить, где К. А. пересказывает мнения гностиков, а где излагает собственное учение; даже части текста, прямо вводимые местоимением «мы», не во всех случаях являются изложением христ. учения, т. к. такой способ введения отдельных пунктов учения мог быть присущ источникам К. А. В XX в. исследователи предпринимали попытки отделить в «Извлечениях из сочинений Феодота...» изложение гностического учения от критических аргументов К. А. и представления им собственных взглядов (согласно Ф. Саньяру, мнения самого К. А. отражены в следующих разделах: Clem. Alex. Exc. Theod. 1. 3; 4-5; 7. 3-4; 8-9; 17. 3-4; 18-20; 23. 4-5; 24. 2; 27; 30. 2 - 31. 1; 33. 2; возможно, также: Ibid. 10-15; см.: Sagnard. 1948. P. 8-21; ср. также: Dibelius. 1908. S. 242-247; Casey. 1934. P. 9-10, 25-33). Вслед. фрагментарности текста и неопределенной авторской принадлежности отдельных его частей использование «Извлечений из сочинений Феодота...» в качестве источника, представляющего богословские воззрения К. А., требует большой осторожности и должно быть максимально критическим; не согласующиеся с учением основных сочинений К. А. положения могут быть рабочими гипотезами и предварительно намечаемыми им ходами рассуждения или пересказом тезисов др. полемистов с гностиками, а не положительным учением, принимаемым К. А. в качестве истинного. По содержанию «Извлечения из сочинений Феодота...» делятся на 4 тематических раздела (общую структурную схему см.: Sagnard. 1948. P. 33-37). Первый раздел (Clem. Alex. Exc. Theod. 1-28) строится вокруг учения валентиниан о «духовном семени», из к-рого было образовано тело Логоса при Его явлении на землю и к-рое в результате пришествия Логоса оказалось «пробуждено» в душах гностиков, возводимых Логосом к Отцу (Ibid. 1-5). К. А. приводит мнения валентиниан относительно природы Логоса и способа Его происхождения от Отца и дает им критическую оценку (Ibid. 6-9). Он пересказывает учение о том, что образ, форма и телесность присущи как ангелам, так и Логосу, и подробно рассуждает об ангельском мире и небесной иерархии (Ibid. 10-15; Саньяр считает, что К. А. в этом отрывке сообщает собственные взгляды, однако это предположение спорно). Далее предлагается обзор гностического учения о явлении Логоса в мир, о Крещении Иисуса Христа как видимом явлении тождества Логоса и Св. Духа (Утешителя), о «духовной церкви», о спасении (Ibid. 16-28). Во втором разделе (Ibid. 29-42) представлен пересказ гностического учения о Плероме; здесь упоминаются основные эоны валентинианской системы и объясняется отношение между ними. Третий раздел (Ibid. 43-65) содержит множество параллелей с обзором учения валентиниан, приводимым сщмч. Иринеем Лионским (Iren. Adv. haer. I 4. 5 - I 7. 5); по мнению исследователей, К. А. и сщмч. Ириней опирались на некий общий гностический источник. В этом разделе последовательно излагаются гностическая космология, антропология (в т. ч. учение о различии «материальных», «душевных» и «духовных» людей), христология (в т. ч. учение о спасении) и эсхатология. Четвертый раздел (Clem. Alex. Exc. Theod. 66-86) посвящен учению о спасении; здесь пересказывается гностическое учение о судьбе (в т. ч. об астрологических предсказаниях) и предлагается подробная символическая интерпретация крещения как «духовного возрождения», освобождающего гностиков от власти судьбы и смерти. Хотя большинство приводимых К. А. мнений гностиков сложно с уверенностью приписать определенному гностическому учителю, «Извлечения из сочинений Феодота...» являются одним из наиболее важных источников по истории развития гностических систем и содержат значительное число уникальных сведений, относящихся к основным разделам гностического богословия (анализ содержания см.: Casey. 1934. P. 4-38, 93-160; Sagnard. 1948. P. 21-49; ср. также: Festugière. 1949; Orbe. 1959; Idem. 1968; Havrda. 2006; Markschies. 2007).
Соч. «Избранные места из пророческих писаний» разделено издателями на 65 параграфов. В рукописи Laurent. Plut. 5. 3 текст сочинения начинается с нового листа, тогда как предполагаемое заглавие помещено внизу предыдущего листа, непосредственно после текста «Извлечений из сочинений Феодота...» (см.: Laurent. Plut. 5. 3. Fol. 377v-378r); т. о., заглавие может быть интерпретировано и как обозначение конца предшествующего текста. Вместе с тем практика обозначения заглавием «Избранные места...» заключительного текста рукописи Laurent. Plut. 5. 3 закрепилась в традиции и в наст. время является общепринятой (ср.: Le Boulluec. 1997. P. 291). Во многом на основании заглавия в лит-ре часто делается не вполне корректное заключение, что соч. «Избранные места...» имеет экзегетический характер. В действительности экзегетическими в строгом смысле могут считаться лишь начальный (Clem. Alex. Eclog. proph. 1-8) и конечный (Ibid. 51-65) разделы текста, к-рые содержат объяснение нек-рых отрывков из ВЗ, тогда как основную часть сочинения занимает описание духовного пути христианина от крещения к гностическому совершенству, во многом параллельное разработке этой темы в 6-й и 7-й книгах «Стромат» (общий анализ содержания и комментарии к тексту см.: Estratti profetici. 1985. P. 9-35; 99-140). Вероятнее всего, «Избранные места...» являются не выписками из чужих трудов, а собственным произведением К. А.; при этом сочинение лишено типичной для К. А. стилистической отделки (см.: Scham. 1913. S. 170-171), что может свидетельствовать о его черновом или приватном характере. Авторство К. А. подтверждается упоминанием в «Избранных местах...» Пантена как авторитетного учителя, мнение к-рого противопоставляется мнению гностика Ермогена (Clem. Alex. Eclog. proph. 56). В тексте обсуждаются некоторые гностические и неортодоксальные идеи, однако они приводятся лишь с критическими оценками. В целом материал имеет ярко выраженный христианский характер и, вопреки мнению Х. фон Арнима (Arnim. 1894. P. 6-7), не может рассматриваться в качестве продолжения выписок из сочинений валентиниан. По содержанию «Избранные места...» делятся на 4 основных тематических раздела (ср.: Ibid. P. 4-8; Nardi. 1985. P. 28-33; Cambe. 2009. P. 14-16). Первый раздел (Clem. Alex. Eclog. proph. 1-8) посвящен изложению учения о духовном смысле таинства Крещения. Используя в качестве отправной точки отрывки из Песни трех отроков, содержащейся в Книге пророка Даниила (Дан 3. 55-60, 90), К. А. со ссылками на кн. Бытие (Быт 1. 1-2) и Книгу пророка Осии (Ос 1. 2, 7, 10-11) излагает учение о творении мира; он предлагает объяснение символики воды и таинственного значения употребления воды при крещении. Второй раздел (Clem. Alex. Eclog. proph. 9-50), к-рый занимает большую часть сочинения и имеет богословско-нравственный характер, К. А. начинает с изложения учения о движении христианина к совершенству (Ibid. 10-27); он упоминает о значении веры и надежды, о смысле поста, о необходимости стремления к гностическому познанию, о роли Церкви в спасении; рассуждает о домостроительстве спасения, о соотношении спасительного действия Бога и желания человека. От рассмотрения содержания и плодов веры К. А. переходит к объяснению духовного значения гносиса и подчеркивает важность гносиса для правильного толкования Свящ. Писания (Ibid. 28-37). Третий раздел составляют отрывочные и тематически разнородные краткие рассуждения (Ibid. 38-50), которые, вероятно, отражают полемику К. А. с нек-рыми экзегетами (по имени назван лишь Татиан); К. А. касается также учения о грехах и указывает на справедливость суда Божия. Четвертый раздел (Ibid. 51-63) содержит краткий аллегорический комментарий к псалму 18; К. А. рассуждает преимущественно о творении мира и об ангельской иерархии (анализ богословского содержания этого раздела см.: Nardi. 1995; Cambe. 2009). К. А. формулирует здесь важное в богословском отношении учение о том, что движение человека к высшему совершенству заключается в последовательном прохождении им степеней ангельской иерархии и в достижении «сотворенной в самом начале природы ангелов» (εἰς τὴν πρωτόκτιστον τῶν ἀγγέλων φύσιν), которая в наивысшей степени приближена к Богу (Ibid. 57). Текст «Избранных мест...» в рукописи Laurent. Plut. 5. 3 прерывается на параграфе 63; параграфы 64-65 (состоящие всего из 5 строк) сохранились в позднейших списках; они содержат пояснение К. А. к 2 стихам псалма 19 (Пс 19. 5, 10). Отсутствие в «Избранных местах...» строгой структуры и логической связи между разделами заставляет предполагать, что этот текст является собранием неких материалов К. А., объединенных уже после его смерти. По мнению К. Нарди, в «Избранных местах...» представлены черновые наброски, к-рые К. А. делал в процессе подготовки к написанию продолжения «Стромат» или к.-л. др. сочинения (см.: Nardi. 1985. P. 10-12). Вместе с тем тематическая привязка 1-го раздела к таинству Крещения, а следующих за ним рассуждений 2-го раздела - к учению о практике христ. жизни, может свидетельствовать о том, что нек-рые вошедшие в состав «Избранных мест...» заметки связаны с катехизаторской деятельностью К. А. и являются подготовительными материалами для бесед с проходившими катехизацию (анализ разработки темы крещения и катехизического наставления в «Избранных местах...» см.: Nardi. 1984).
Вопросы о месте т. н. 8-й кн. «Стромат», «Извлечений из сочинений Феодора...» и «Избранных мест...» в лит. наследии К. А. и об отношении этих текстов к «Строматам» широко обсуждались в науке; предложенные гипотезы могут быть сведены к 2 основным (обзор см.: Nautin. 1976. P. 270-282; Servino. 2001. P. 103-104). Первая гипотеза, ставшая наиболее распространенной и традиционной, была предложена и обоснована П. Рубеном (Ruben. 1892) и Арнимом (Arnim. 1894); ее поддерживали Гарнак (Harnack. 1904. S. 17-18), Штелин (Stählin. 1934. P. 28-29), Меа (Méhat. 1966. P. 517) и мн. др. исследователи. Согласно этой гипотезе, все тексты, помещенные после 7-й кн., являются заметками и выписками К. А.; хронологически они относятся к периоду работы К. А. над «Строматами». Ввиду содержательного интереса заметок после смерти К. А. его ученики присоединили их к тексту «Стромат»; вероятно, на каком-то этапе распространения текста появилось внесенное переписчиками обозначение части заметок как «восьмой книги», тогда как др. часть сохранилась под отдельными заглавиями. Основной тезис 2-й гипотезы был выдвинут Цаном, к-рый предположил, что все тексты, помещенные после 7-й кн., являются сделанными переписчиками извлечениями из написанной К. А. 8-й кн., которая в полном виде не сохранилась (Zahn. 1884. S. 104-130). Попытку развития этой гипотезы в неск. измененном виде предпринял Нотен (Nautin. 1976). Сопоставив различные рассуждения К. А. о плане «Стромат», Нотен пришел к заключению, что после 7-й кн. «Стромат» К. А. намеревался написать еще одну или неск. книг, содержащих «апологетические рассуждения, обращенные к грекам и к евреям», а также отдельное соч. «Очерки», посвященное рассмотрению христ. «физики», т. е. философского учения о началах и богословского учения о Боге и творении, строящегося с помощью аллегорического истолкования Свящ. Писания. Согласно Нотену, эти сочинения были написаны К. А.; все материалы, следующие в рукописи после основного текста «Стромат», являются сделанными писцом в III в. извлечениями из продолжения «Стромат» и из «Очерков», к-рые в полном виде не сохранились (см.: Ibid. P. 291-299). Нотен полагал, что 1-я ч. текста, известного ныне как 8-я кн. «Стромат» (Clem. Alex. Strom. VIII 1. 1. 1 - VIII 8. 24. 6),- это выписки из оригинальной 8-й кн. и, возможно, из последующих книг «Стромат», а 2-я ч. этого текста (Ibid. VIII 9. 25. 1 - VIII 9. 33. 9), «Извлечения из сочинений Феодота...» и «Избранные места...» - это выписки из соч. «Очерки» (общую схему см.: Nautin. 1976. P. 298). Основная слабость гипотезы Нотена заключается в том, что соотнесение текстов было осуществлено им схематически, по неким «общим темам», без учета особенностей их композиции и содержания. Аргументация Нотена базируется на внешнем соотнесении сообщения свт. Фотия, патриарха К-польского, о содержании «Очерков» с некоторыми темами «Извлечений из сочинений Феодота...» и «Избранных мест...». При этом гипотеза Нотена игнорирует традицию рецепции текстов К. А. Вопреки мнению Нотена, в источниках однозначно засвидетельствовано: 1) наличие лишь 8 книг «Стромат»; 2) отнесение всех материалов, следующих после 7-й кн. «Стромат», к условной 8-й кн., а не к иным книгам или к соч. «Очерки»; 3) характеристика соч. «Очерки» как самостоятельного крупного произведения, содержащего последовательную экзегезу Свящ. Писания, а не как некоего изложения христ. «физики», продолжающего «Строматы». Т. о., несмотря на внешнюю привлекательность и наличие определенной поддержки со стороны др. исследователей (см., напр.: Le Boulluec. 1997; Cambe. 2009. P. 163-168), гипотеза Нотена является искусственной и неубедительной; она значительно уступает традиционной гипотезе, которая непротиворечиво объясняет отрывочный характер примыкающих к «Строматам» текстов (ср.: Servino. 2001. P. 102).
4. «Кто из богатых спасется?» (Τίς ὁ σῳζόμενος πλούσιος; Quis dives salvetur; CPG, N 1379; PG. 9. Col. 603-652; SC. 537; критическое изд.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 159-191; рус. пер.: Кто из богатых спасется? 1888. 2011п; вариант перевода заглавия: Какой богач спасется?), небольшое сочинение, разделенное издателями на 42 главы. Точное определение времени создания невозможно, однако, исходя из тематики, исследователи предполагают, что сочинение было создано до отъезда К. А. из Александрии и адресовано группе состоятельных александрийских христиан. В основной рукописи Scorial. gr. 552 текст не имеет ни указания на авторство, ни заглавия, однако свидетельства церковных писателей не оставляют сомнений, что это сочинение принадлежит К. А., и позволяют восстановить заглавие, к-рое является реминисценцией вопроса апостолов, обращенного к Иисусу Христу: «Кто же может спастись?» (Мк 10. 26). В центре внимания К. А. находится отрывок Евангелия от Марка, в к-ром повествуется о предшествовавшей этому вопросу беседе Иисуса Христа с богатым юношей (Мк 10. 17-25) и преподанном ученикам после вопроса наставлении (Мк 10. 27-31). По жанру соч. «Кто из богатых спасется?» является одним из наиболее ранних сохранившихся образцов христ. экзегетической проповеди (гомилии); однако в данном случае речь идет скорее об учительной проповеди-беседе, чем о литургической проповеди в строгом смысле (Stählin. 1934. S. 36). Избранная К. А. литературная форма и композиционная структура восходят к античной традиции риторико-паренетической речи. Беседа К. А. имеет ярко выраженный нравоучительный характер; экзегетика здесь не является самоцелью, но есть лишь эффективный способ наставления.
В композиционном отношении соч. «Кто из богатых спасется?» состоит из 4 основных тематических разделов. В вводном 1-м разделе (Clem. Alex. Quis div. salv. 1. 1 - 3. 6) К. А. полемически выступает против 2 крайностей: с одной стороны, он осуждает тех, кто льстят богачам, потворствуя их беспечности и самодовольству; с др. стороны, он не соглашается с теми, кто, буквально понимая слова Евангелия, думают, что богатым людям вовсе закрыт путь к спасению. Формулируя общую задачу сочинения (Ibid. 3. 1-6), К. А. отмечает, что он желает «открыть богачам таинственное учение» (μυσταγωγεῖν) о том, «каким образом, посредством каких дел и с помощью каких расположений они могут стать участниками надежды [на спасение], которая, с одной стороны, не является для них недостижимой, но, с другой стороны, не приобретается без усилий» (Ibid. 3. 2). В строгом смысле экзегетическим является 2-й раздел (Ibid. 4. 4 - 26. 8), к-рый К. А. начинает с полного цитирования подлежащего рассмотрению отрывка из Евангелия от Марка (Мк 10. 17-31), объясняя затем по отдельности каждый стих. К. А. подчеркивает, что повеление продать имущество не следует понимать в прямом и букв. смысле; оно означает призыв отрешиться от господствующих в душе страстей и собирать духовные богатства как сокровища для Царства Небесного. Внешние обстоятельства жизни, согласно К. А., не имеют спасительной ценности сами по себе; важной является внутренняя жизнь человека, который должен превращать внешние богатства в средства к стяжанию добродетели (ср.: Сагарда. 2004. С. 422-423). В 3-м разделе (Clem. Alex. Quis div. salv. 27. 3 - 38. 3). К. А. переходит к рассмотрению вопроса о том, каким образом правильное отношение к богатству может служить достижению спасения. Он указывает на 2 высшие заповеди о любви к Богу и к ближнему, предлагая объяснение духовного смысла христ. любви и описание практических следствий ее приобретения. Проявлением любви к Богу, по словам К. А., является деятельная любовь к ближним, поэтому лучшим и наиболее спасительным применением богатства является использование его для помощи ближнему, т. е. для поддержки бедных и для дел милосердия. В 4-м разделе (Ibid. 38. 4 - 42. 20) К. А. обсуждает вопрос о покаянии, заявляя, что Бог всегда готов принять обращающегося к нему грешника, если видит в нем твердое желание исправить свою жизнь, поэтому до конца жизни у человека останется надежда на спасение. Помощником в добродетельной жизни, согласно К. А., является опытный духовный руководитель, к-рый наставляет человека в добродетели и после заблуждения может снова вернуть его на путь истины (Ibid. 41. 1-7).
Для подтверждения рассуждений о покаянии и значении духовного руководства К. А. сообщает «сохраненный в предании истинный рассказ» (ὄντα λόγον παραδεδομένον) об ап. Иоанне Богослове и юноше (Ibid. 42. 1-15; ср.: Wickert. 1959. S. 129-132). Этот юноша, уклонившись от христ. образа жизни, оказался среди разбойников, но был обращен к покаянию любовью апостола, став образцом истинного исправления (анализ содержания см.: Junod. 1980; Nardi. 1989). Впосл. рассказ имел значительную популярность в патристической литературе; его полностью цитирует еп. Евсевий Кесарийский (Euseb. Hist. eccl. III 23. 6-19), подробно пересказывает прп. Анастасий Синаит (Anast. Sin. In Ps. 6 // PG. 89. Col. 1105-1109; рус. пер.: Анастасий Синаит, прп. Слово на шестой псалом / Пер.: М. В. Никифоров // Он же. Избранные творения. М., 2003. С. 295-297), а также кратко передают или упоминают др. визант. авторы (см., напр.: Ioan. Chrysost. Ad Theodor. I 19 // PG. 47. Col. 305; Niceph. Callist. Hist. eccl. II 42 // PG. 145. Col. 869-873; перечень свидетельств см.: Harnack. 1893. S. 316; Nardi, Discourieux. 2011. P. 61-62). Переработанная версия рассказа была включена Симеоном Метафрастом (X в.) в греч. Житие ап. Иоанна Богослова (BHG, N 919; см.: PG. 116. Col. 693-697). Наиболее ранняя слав. обработка рассказа принадлежит болг. богослову и переводчику Иоанну Экзарху (IX-X вв.) и входит в состав соч. «Похвала Иоанну Богослову» (слав. текст с введением, болг. пер. и комментарием: Йоан Екзарх Български. Слова / Ред.: Д. Иванова-Мирчева. София, 1971. Т. 1. С. 115-184; анализ отрывка, содержащего рассказ, и слав. традиции рассказа в целом см.: Верещагин. 1995). В визант., лат. и слав. рукописных традициях различные версии рассказа нередко помещались в прологи и сборники поучений как отдельное произведение без указания авторства. Чаще всего рассказ имел заглавие «Слово о юноше»; под таким названием его слав. обработки были включены в Макарьевские Минеи-Четьи (см.: ВМЧ: Сентябрь, дни 25-30. 1883. Стб. 1582-1584, 2163-2164; 2 близкие друг к другу сокращенные версии) и в московский первопечатный Пролог (Пролог. [М., 1642. Т. 1: Сент.-февр.]. Л. 108-109).
Лист, содержащий конец рассказа об ап. Иоанне и продолжение основного рассуждения К. А. (Ibid. 42. 8-16), в рукописи Scorial. gr. 552 испорчен; окончание рассказа восстанавливается по тексту у еп. Евсевия Кесарийского и в др. источниках, однако при этом остается лакуна размером в 21 рукописную строку (см.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 190; Stählin. 1905. S. XLIII). Значительная часть лакуны может быть восполнена благодаря фрагменту, сохранившемуся на арм. языке и озаглавленному «О покаянии» (оригинал см.: Pitra. Analecta Sacra. Vol. 4. P. 35-36; лат. пер.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 229. Fragm. 69; SC. 537. P. 220; итал. пер. с арм. и комментарий см.: Recheis. 1953), последнее предложение которого по смыслу совпадает с греческим текстом, следующим в рукописи после лакуны (начинается со слов: ...φαιδροῖς γεγηθότες...; в рус. пер. Корсунского лакуна не обозначена, начало текста после лакуны со слов: «...когда, по наступлении конца мира, истинно раскаявшихся ангелы примут в небесные обители...»; эти слова отсутствуют в греч. тексте и являются смысловой вставкой переводчика). Во фрагменте К. А. сообщает, что после смерти «ангелы левой стороны», т. е. злые духи, завладевают душами упорствовавших во зле людей и ввергают их для мучений в вечный огонь; хотя грешники каются в своей порочной жизни, их запоздалое покаяние не приносит им пользы. Напротив, к тем, кто принесли покаяние и стяжали его плоды при жизни, злые духи приблизиться не могут; эти праведники восходят на небеса, где их встречают «ангелы правой стороны» и Сам Спаситель. В заключительной части сочинения (Clem. Alex. Quis div. salv. 42. 16-20) К. А. подчеркивает, что буд. участь человека зависит не от внешних условий его жизни, но исключительно от его внутреннего состояния. Человек призван «добровольно» (κουσίως) решить, будет ли он на земле следовать к вечной жизни путем покаяния или станет предаваться греховным удовольствиям, ведущим к погибели.
Несохранившиеся
Цитаты из «Очерков» сохранились в трудах еп. Евсевия Кесарийского (Clem. Alex. Fragm. 4, 8-10, 13-14, 22), прп. Максима Исповедника (Ibid. Fragm. 5, 11), блж. Иоанна Мосха (Ibid. Fragm. 6), свт. Фотия, патриарха К-польского (Ibid. Fragm. 23), а также в известных под именем визант. экзегета Икумения (VI в.) толкованиях на Деяния св. апостолов, Послания ап. Павла и соборные Послания (CPG, N 7475; Clem. Alex. Fragm. 1-3, 7, 15-21) и в катенах (Clem. Alex. Fragm. 12; предположительно также: Ibid. 54-58). Неучтенный в издании Штелина краткий отрывок из 8-й кн., содержащий комментарий к Мф 11. 11 и помещенный в качестве маргиналии на полях рукописи Евангелия X-XI вв. (Laurent. Conv. Soppr. 159. Fol. 18v), был обнаружен и опубликован Ф. ди Бенедетто (Di Benedetto. 1983). Наиболее крупным отрывком из «Очерков» является переработанный и сокращенный лат. перевод части сочинения, сохранившийся в 2 рукописях (Laudun. 96, IX в.; Berolin. SB. Phill. 45, XIII в.; описание см.: Stählin. 1905. S. XLV-XLVI; Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. XIX-XX) и известный под названием «Очерки Климента Александрийского на соборные Послания» (Adumbrationes Clementis Alexandrini in epistolae canonicas = Clem. Alex. Fragm. 24; 1-е критическое изд. с текстологическими комментариями см.: Zahn. 1884. S. 79-103). Текст содержит объяснения к Первому посланию Петра, Посланию Иуды, Первому и Второму посланиям Иоанна. Рим. богослов и церковный писатель Кассиодор (V-VI вв.) сообщает, что этот перевод был сделан по его указанию, причем из текста были удалены все неосторожные и соблазнительные высказывания К. А. (Cassiod. De inst. div. lit. I 8. 4); т. о., лат. перевод должен считаться лишь приблизительно передающим исходный греческий текст. Р. Риденгер в неск. статьях (см.: Riedinger. 1960; Idem. 1962; Idem. 1975; Krawczynski, Riedinger. 1964. P. 15-25; ср.: CPG, N 1395, 1396) развивал гипотезу о том, что «Очерки» К. А. наряду с др. его произведениями были использованы в качестве экзегетического источника в письмах прп. Исидора Пелусиота (IV-V вв.) и в «Вопросоответах» Псевдо-Кесария (CPG, N 7482). Однако, поскольку речь идет не о цитировании, а о переработке, сохраняющей лишь общее идейное содержание, надежное заключение о прямой зависимости тех или иных текстов от «Очерков» сделать невозможно. В записках французского дипломата Л. А. де Лоне, графа д'Антрега (1753-1812), отосящихся к 1779 г., содержится рассказ о том, что он видел в егип. мон-ре св. Макария Великого полную греческую рукопись «Очерков», насчитывавшую 208 листов; попытки исследователей в XIX-XX вв. найти эту рукопись не имели успеха (подробнее см.: Duckworth, Osborn. 1985; Osborn. 1989/1990; ср.: Le Boulluec. 1997. P. 299).
Относительно времени создания «Очерков» было выдвинуто 2 основные гипотезы. Согласно 1-й гипотезе (см., напр.: Harnack. 1904. S. 19-20), К. А. писал «Очерки» одновременно со «Строматами» или даже до «Стромат»; в отличие от «Стромат» «Очерки» были завершены К. А. Наиболее серьезным аргументом против этой гипотезы является указание на то, что в «Строматах» К. А. ссылается на др. свои сочинения, однако ни разу не ссылается на «Очерки». Сторонники 1-й гипотезы обычно объясняют это разным характером сочинений: если «Строматы» К. А. предназначал для широкой аудитории, включавшей язычников, то «Очерки», будучи экзегетическо-богословским сочинением, предназначались исключительно для членов христ. общины; упоминание в «Строматах» этого «эзотерического» сочинения привлекло бы к нему внимание внешних лиц, чего К. А. стремился избежать (см.: Arnim. 1894. S. 14-15). Согласно 2-й гипотезе (см., напр.: Zahn. 1884. S. 176; Méhat. 1966. P. 517-522; Nautin. 1976. P. 293-298), К. А. начал писать «Очерки» одновременно с работой над 8-й кн. «Стромат» или сразу после ее завершения. По неизвестным причинам отказавшись от создания новых книг «Стромат», К. А. переключил все внимание на «Очерки», к-рые стали продолжением «Стромат» по тематике (но не по форме) и содержали экзегетическое исследование тех богословских тем, о намерении рассмотреть к-рые К. А. упоминал в «Строматах». Отсутствие полного текста «Очерков» делает невозможным строгое обоснование как 1-й, так и 2-й гипотезы; они остаются равноправными попытками исследовательской интерпретации отрывочных сведений, сохранившихся об «Очерках».
В исследовательской лит-ре предлагались различные объяснения названия сочинения. Во времена К. А. слово ὑποτυπώσις в заглавии литературного произведения означало «очерк», «краткое изложение», «обзор» и часто применялось к произведениям, тезисно представлявшим некое учение (подробнее см.: Сагарда. 1913. С. 1105-1106; Le Boulluec. 1997. P. 295-299). К. А. неск. раз употребляет слово ὑποτυπώσις в таком значении в «Строматах» как обозначение этого сочинения (см., напр.: Clem. Alex. Strom. I 1. 12. 1; II 1. 1. 2; IV 1. 1. 3). Однако в НЗ (1 Тим 1. 16; 2 Тим 1. 13) и у К. А. (Clem. Alex. Paed. I 95. 2) слово ὑποτυπώσις используется также в значении «образец», «предварительный образ»; учитывая эту коннотацию, можно предположить, что К. А. хотел предложить не просто некие отрывочные «очерки» по Свящ. Писанию, но дать «образцы» краткого экзегетического объяснения священного текста, соединив аллегоризирующие «духовные» объяснения с церковно-историческими и богословскими замечаниями, возводимыми к апостольскому Преданию. Сохраненные еп. Евсевием Кесарийским цитаты из «Очерков» имеют исторический характер и свидетельствуют, что К. А. сообщал в сочинении об обстоятельствах создания книг НЗ, о деяниях св. апостолов и о др. событиях из истории ранней христ. Церкви (см.: Clem. Alex. Fragm. 4, 6, 8-9, 13, 14, 22). О богословском содержании «Очерков» говорится в свидетельстве свт. Фотия, к-рый дает сочинению критическую оценку, отмечая, что в толкованиях К. А. «иногда излагает правые мысли, а иногда уклоняется в нечестивые и баснословные рассуждения» и что во всех 8 книгах «Очерков» можно найти «чудовищные богохульства» (Phot. Bibl. 109). Свт. Фотий приводит неск. примеров: признание вневременной (т. е. нетварной) материи, переселения душ и существования мн. миров до Адама; утверждения, что Ева не произошла от Адама и что ангелы совокуплялись с женщинами (ср.: Быт 6. 1-2); учение о призрачности воплощения Логоса и о двух Логосах. Лишь последний тезис свт. Фотий подкрепляет соответствующей цитатой из «Очерков» (Clem. Alex. Fragm. 23). Др. сохранившиеся отрывки из «Очерков» не могут ни подтвердить, ни опровергнуть суждения свт. Фотия (за исключением приписывания К. А. учения о переселении душ, т. к. К. А. прямо отвергает его в комментарии к 1 Петр 1. 3; см.: Clem. Alex. Fragm. 23 // Idem. Werke. 19702. Bd. 3. S. 203). Поскольку К. А. широко использовал в «Очерках» аллегорический метод толкования, применяя его как к ВЗ, так и к НЗ, причем нередко объясняя иносказательно места, вполне ясные в букв. смысле, он мог в некоторых случаях допускать неточные с т. зр. сложившейся христианской догматики высказывания; примеры таких «неосторожных» высказываний можно найти и в «Строматах». Вместе с тем едва ли уклонения К. А. от традиц. христ. учения были столь серьезными, как это представляет свт. Фотий (см.: Сидоров. 1998. С. 77-79; подробный критический анализ свидетельства свт. Фотия см.: Ashwin-Siejkowski. 2010).
2. «О Пасхе» (Περ τοῦ πάσχα; De Pascha; CPG, N 1381; критическое изд. фрагментов: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 216-218 = Idem. Fragm. 25-35). Сочинение упоминает еп. Евсевий Кесарийский, давая неск. противоречивые сведения: в одном случае он говорит, что К. А. составил кн. «О Пасхе» «по поводу сочинения Мелитона» (ἐξ αἰτίας τῆς τοῦ Μελίτωνος γραφῆς - Euseb. Hist. eccl. IV 26. 4); в др. случае сообщается, что К. А. написал кн. «О Пасхе» по просьбе друзей, побуждавших его записать предания, полученные от «древних пресвитеров» (τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων), и что в книге приводятся «объяснения» (διηγήσεις) свт. Мелитона, еп. Сардского, свт. Иринея, еп. Лионского, и др. раннехрист. учителей (Ibid. VI 13. 9). Т. о., сочинение К. А. «О Пасхе» было неким образом связано с соч. «О Пасхе» (De Pascha; CPG, N 1092) свт. Мелитона; вероятно, оно содержало обоснование мнения К. А. о правильном дне празднования Пасхи. В цитируемом в «Пасхальной хронике» фрагменте К. А. свидетельствует, что Иисус Христос «13 числа научил апостолов таинству прообраза (ἐδίδαξε τοῦ τύπου τὸ μυστήριον τῇ ιγ)» на Тайной Вечере, а 14 нисана, в праздник иудейской Пасхи, пострадал и умер (Clem. Alex. Fragm. 28). Проч. сохранившиеся фрагменты являются случайными цитатами; они не позволяют с уверенностью заключить, поддерживал ли К. А. традицию малоазийских Церквей праздновать Пасху строго 14 нисана, к-рой следовал свт. Мелитон, или защищал присущую Александрийской и Палестинской Церквам практику празднования Пасхи в воскресный день после 14 нисана (см.: Euseb. Hist. eccl. V 22-25). Вместе с тем из слов еп. Евсевия о том, что К. А. приводил объяснения свт. Мелитона и свт. Иринея, можно заключить, что он по меньшей мере считал древней и допустимой малоазийскую традицию.
3. «Канон церковный, или Против иудействующих» (Κανὼν ἐκκλησιαστικὸς ἢ πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαΐζοντας; Canon ecclesiasticus; CPG, N 1382; критическое изд. фрагмента: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 218-219 = Idem. Fragm. 36). Название сочинения приводит еп. Евсевий Кесарийский, свидетельствуя, что оно было посвящено Александру, еп. Иерусалимскому (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 3). Единственный сохранившийся фрагмент содержит аллегорическое истолкование слов, произнесенных Соломоном в связи с завершением строительства иерусалимского храма: «Поистине, Богу ли жить на земле?» (3 Цар 8. 27); они, согласно К. А., прообразовательно указывали на грядущее Боговоплощение (Clem. Alex. Fragm. 36). В «Строматах» К. А. утверждал, что «церковным каноном» называется «согласие и симфония закона и пророков с заветом, дарованным при пришествии Господа» (Strom. VI 15. 125. 3). Т. о., по предположению исследователей, в сочинении он мог предлагать образцы согласования ВЗ и НЗ, полемически направленные против иудеев и иудействующих христиан (см.: Unnik. 1983; о понятии «канон» у К. А. см.: Ohme. 1998).
4. «Увещевание к терпению, или К новокрещеным» (Προτρεπτικὸς εἰς ὑπομονὴν ἢ πρὸς τοὺς νεωστ βεβαπτισμένους; Ad neophytos de patientia; CPG, N 1391). О наличии у К. А. сочинения с таким названием известно от еп. Евсевия Кесарийского (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 3). В кон. XIX в. в рукописи из б-ки Эскориала было обнаружено краткое поучение, озаглавленное «Предписания Климента» (Κλίμεντος [sic!] παραγγέλματα; Scorial. gr. 289 (в др. системе нумерации - Υ. III. 19). Fol. 246v - 248). Текст поучения был опубликован англ. исследователем П. М. Барнардом, который отождествил его с соч. «Увещевание к терпению...» К. А. (см.: Appendix on Some Clementine Fragments // Clement of Alexandria. Quis dives salvetur / Ed. P. M. Barnard. Camb., 1897. P. 47-50); впосл. текст был включен в издание Штелина с такой же атрибуцией (см.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 219-221 = Idem. Fragm. 44). Как показали дальнейшие исследования, это поучение встречается в рукописях под именами разных авторов (данные основных рукописей см.: Guida. 1976. P. 220): прп. Макария Египетского (см. Макарий Великий) (4 рукописи; = Macar. Aeg. I 62; рус. пер. и комментарий см.: Макарий Египетский. Духовные слова и послания / Изд. подгот. А. Г. Дунаев. М., 2002. С. 823-825, 897-898. Примеч. 581), прп. Максима Исповедника (3 рукописи; публикация греч. текста с предположительным мело-ритмическим разбиением: Епифанович С. Л. Материалы к изучению жизни и творений прп. Максима Исповедника. К., 1917. С. 85-91), К. А. (1 рукопись). Вопрос об авторстве поучения оставался нерешенным до 1976 г., когда итал. исследователь А. Гвида обнаружил поучение в рукописи из б-ки Лауренциана под неизвестным ранее пространным заглавием: «Святого Григория Богослова [взятое] из стихов переложение предписаний о безмолвии и добродетелях» (Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ἐκ τῶν ἐιπῶν μετάφρασις παραγγελμάτων περ ἡσυχιας κα ἀρετῶν; Laurent. Conv. Soppr. 177. Fol. 242r - 242v). Гвидой было подготовлено критическое издание поучения по всем греч. рукописям (Guida. 1976. P. 222-226) и проведен подробный анализ его содержания (Ibid. P. 193-221). Основываясь на рукописной атрибуции, на результатах содержательного анализа и на стилистических характеристиках текста, Гвида сделал вывод, что переложение было составлено самим свт. Григорием; вместе с тем нельзя полностью исключать его принадлежность неизвестному более позднему автору. Отсутствие прямых текстовых параллелей со стихотворениями свт. Григория Гвида объяснил тем, что переложение было составлено на основе несохранившихся до наст. времени стихотворений. При этом Гвида справедливо указал на ряд смысловых параллелей как с др. сочинениями свт. Григория, так и с имеющим сходное нравственно-аскетическое содержание 2-м письмом свт. Василия Великого, которое адресовано свт. Григорию (Basil. Magn. Ep. 2). Поскольку содержание поучения не имеет к.-л. явных следов авторства К. А. и атрибуция текста К. А. основывается исключительно на заглавии и тематике, ее следует признать ошибочной; рассуждения патрологов о поучении как о тексте, принадлежащем К. А. (см., напр.: Enslin. 1954. P. 226-227; Сидоров. 1998. С. 81), нуждаются в соответствующей корректировке. Т. о., никаких фрагментов соч. «Увещевание к терпению...» в наст. время не известно.
Еп. Евсевий Кесарийский (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 3) и блж. Иероним (Hieron. De vir. illustr. 38) упоминают также «беседы» (διαλέξεις) К. А. «О посте» (Περ νηστείας; De jejunio discerptatio) и «О злоречии» (Περ καταλαλιᾶς; De obtrectatione); никаких отрывков из этих сочинений не сохранилось. Возможно, это были учительные беседы, похожие на соч. «Кто из богатых спасется?», или же извлечения из др. сочинений К. А.
Особую группу образуют сочинения, упоминаемые самим К. А., но не цитируемые и не упоминаемые др. авторами. При этом одни заглавия К. А. приводит, обозначая некие уже существующие рассуждения, а др. заглавия указывают на рассуждения, к-рые он намеревался предложить в будущем. К 1-й группе относятся заглавия «О воздержании» (Περ ἐγκρατείας; Clem. Alex. Paed. II 10. 94. 1; ср.: Ibid. 6. 52. 2), «Рассуждение о началах и богословии» (᾿Εξήγησις περ ἀρχῶν κα θεολογίας; Quis. div. salv. 26. 8; ср.: Strom. III 3. 13. 1; III 3. 21. 2; IV 1. 2. 1; V 14. 140. 3). Ко 2-й группе принадлежат заглавия «Слово о браке» (Γαμικὸς λόγος; Paed. III 8. 41. 3), «О воскресении» (Περ ἀναστάσεως; Paed. I 6. 47. 1; II 10. 104. 3), «О душе» (Περ ψυχῆς; Strom. V 13. 88. 4), «О пророчестве» (Περ προφητείας; Strom. I 24. 158. 1; IV 1. 2. 2; IV 13. 93. 1; V 13. 88. 4). В совр. науке преобладает скептическое отношение к традиц. мнению о том, что во всех этих случаях речь идет об отдельных сочинениях (см., напр.: Bardenhewer. 1914. S. 80-84; Сагарда. 2004. С. 424). По предположению исследователей, К. А. мог иметь в виду тематически цельные рассуждения, к-рые он включил или намеревался включить в состав «Стромат» (см.: Stählin. 1934. S. 39-41). Кроме того, поскольку в основе главных сочинений К. А. лежат беседы, к-рые он проводил в Александрии, часть заглавий может указывать не на сочинения, а на типичные темы бесед К. А., упоминания о к-рых сохранились во включенных К. А. в сочинения отредактированных версиях некоторых бесед.
Приписываемые
1. «О Промысле» (Περ προνοίας; De providentia; CPG, N 1390; критическое изд. фрагментов: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 219-221 = Idem. Fragm. 37-43). Сочинение цитируют прп. Максим Исповедник и прп. Анастасий Синаит, однако о нем не упоминает еп. Евсевий Кесарийский; из цитат следует, что в трактате было как минимум 2 книги. Содержание цитат заставляет сомневаться в авторстве К. А., поскольку в большинстве случаев речь идет о кратких определениях философского характера. Эти определения встречаются также в анонимном сборнике философских цитат, представленном в рукописи X в. (Patm. 263); здесь они обозначены именем К. А. без указания сочинения (Bergjan. 2012. P. 90). Большинство определений не похожи на обычные для К. А. философские рассуждения ни по стилю, ни по содержанию, ни по терминологии. Напр., во фрагментах трижды используется по отношению к Богу термин «неописуемая сущность» (οὐσία ἀπερίγραπτος), ни разу не встречающийся в сочинениях К. А., и др. нехарактерные для него слова и выражения; излагается аристотелевское учение о 4 смыслах понятия «сущность» и т. п. Т. о., хотя нельзя исключать, что у К. А. было соч. «О Промысле», относимые к нему цитаты не принадлежат К. А.; вероятнее всего, речь идет о псевдоэпиграфе (см.: Bergjan. 2012. P. 90-92; ср. также: Uthemann. 1980; Беневич. 2013. С. 59-60).
2. «Письма». В сб. «Священные параллели» трижды цитируются «Письма» К. А. (Epistulae; CPG, N 1392; текст см.: Clem. Alex. Fragm. 45-47); 2 цитаты отнесены к 21-му письму, а одна приводится без указания номера письма. Краткость цитат не позволяет судить о принадлежности фрагментов К. А. и об их действительном происхождении.
3. Фрагменты и упоминания. Некоторые отрывки из сочинений К. А. цитируются в источниках лишь под его именем, без указания на то, из какого сочинения они взяты. Большую часть этих отрывков издатели сочли неподлинными (список см.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. XXX-XXXVIII), однако отдельные цитаты могут принадлежать К. А. (Clem. Alex. Fragm. 48-74; ср.: CPG, N 1394, 1398, 1399). В «Лавсаике» Палладия, еп. Еленопольского (IV-V вв.), упоминается без цитирования некое «сочинение Климента, автора «Стромат», на [Книгу] пророка Амоса» (σύγγραμμα Κλήμεντος τοῦ Στρωματέως εἰς τὸν προφήτην ᾿Αμώς - Pallad. Hist. Laus. (Bartelink). 60); об этом произведении больше ничего не известно и существование его сомнительно.
4. Особое место среди приписываемых К. А. сочинений занимает «Письмо к Феодору» (Epistula ad Theodorum; CPG, N 1397). В 1973 г. амер. ученый М. Смит (1915-1991) опубликовал монографию, целиком посвященную представлению и анализу текста письма (Smith. 1973). Смит заявил, что в 1958 г. в б-ке Саввы Освященного лавры им был обнаружен отрывок из письма К. А., повествующего о Марка Тайном евангелии. Согласно Смиту, это письмо было скопировано монахом лавры с неизвестного источника в сер. XVIII в. на последний чистый лист и задний форзац выпущенного в XVII в. издания посланий сщмч. Игнатия Богоносца (I-II вв.), хранившегося в б-ке лавры (Epistolae genuinae S. Ignatii Martyris / Ed. I. Vossius. Amstelodami, 1646). Рукопись письма, занимающая 3 страницы, начинается с заглавия: «Из писем святейшего Климента, автора «Стромат», [письмо] Феодору» (᾿Εκ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγιωτάτου Κλήμεντος τοῦ Στρωματέως̇ Θεοδώρῳ); на последней странице текст обрывается без окончания (факсимиле и транскрипцию рукописи, греч. текст и англ. пер. см.: Smith. 1973. P. 446-453). Письмо начинается с одобрения автором борьбы некоего Феодора с гностическим движением карпократиан (см. ст. Карпократ). Далее сообщается, что карпократиане передают ложные сведения о Евангелии от Марка; для опровержения их учения автор письма сообщает историю создания «Тайного евангелия от Марка». Согласно письму, 1-я версия Евангелия, тождественная общеизвестному Евангелию от Марка, была создана ап. Марком в Риме. После смерти ап. Петра ап. Марк приехал в Александрию, где создал 2-ю, расширенную версию Евангелия; после смерти ап. Марка она хранилась в Александрийской Церкви и была доступна лишь немногим «посвященным в великие мистерии». По словам автора письма, карпократианам удалось обманным путем снять копию «тайного евангелия», в к-рую они затем внесли собственные ложные идеи. Автор письма предлагает 2 цитаты из «тайного евангелия» и отвергает как неподлинную краткую цитату, приводимую карпократианами. Первая цитата следует после Мк 10. 34; в ней сообщается о воскрешении (или пробуждении?) Иисусом Христом некоего юноши (эпизод параллельный воскрешению Лазаря в Евангелии от Иоанна), а также о том, что впосл. этот юноша пришел к Иисусу ночью «в льняной одежде (σινδών) поверх нагого тела» и что Иисус, проведя с ним всю ночь, «научил его тайне Царствия Божия». Автор письма отвергает, что к этому отрывку относятся слова «нагой мужчина с нагим мужчиной» (γυμνὸς γυμνῷ), приводимые карпократианами. Во втором отрывке, который автор письма помещает после Мк 10. 46a, говорится, что Иисус отказался принять сестру юноши, «которого Иисус любил», Свою Мать и Саломею. Автор сообщает о намерении дать «согласное с истинной философией» объяснение приведенных отрывков; на этом текст обрывается.
В подробном историческом и филологическом комментарии к письму, а также в ряде отдельных работ Смит пытался обосновать как подлинность самого письма, так и аутентичность «Тайного евангелия от Марка», к-рое, по его мнению, было одним из наиболее ранних произведений евангельской лит-ры. В частности, Смит утверждал, что повествование о воскрешении Лазаря в Евангелии от Иоанна является позднейшей обработкой рассказа о юноше в «Тайном евангелии от Марка». Смит крайне осторожно указывал, что описанная в отрывке практика «духовной инициации», к-рую он считал прототипом христ. крещения и интерпретировал как «магический ритуал», могла предполагать вступление в гомосексуальные отношения, о чем косвенно свидетельствуют упоминания о «нагих телах» (см.: Smith. 1973. P. 237, 251; ср.: Watson. 2010. P. 136). Хотя Смит намеренно ретушировал гомосексуальные оттенки описываемых в «Тайном евангелии от Марка» отношений между Иисусом и юношей, мн. исследователи отмечали, что в действительности именно эта тема является скрытым смысловым центром всего нарратива. Вскоре после выхода публикации Смита началась бурная полемика по вопросу о подлинности письма и приводимых в нем цитат из «Тайного евангелия от Марка», к-рая не утихает до наст. времени (основную библиографию см.: CPG, N 1397; CPGS, N 1397; Brown. 2005. P. 283-300). В 1980 г. Трой включила текст письма в переиздание 4-го тома собрания сочинения К. А. (см.: Clem. Alex. Werke. 19802. Bd. 4. Tl. 1. S. XVII-XVIII); при этом в предисловии было отмечено, что помещение письма в издание не означает признания его подлинности и сделано исключительно с целью инициировать более широкое обсуждение содержания письма патрологами (Ibid. S. VIII).
Хотя формально вопрос о подлинности письма остается до наст. времени открытым, в ходе полемики скептически настроенные исследователи привели ряд весомых доводов, позволяющих заключить, что письмо является подделкой, сфабрикованной Смитом (подробное представление критической аргументации см. в работах: Carlson. 2005; Watson. 2010; Piovanelli. 2013; аргументацию в защиту подлинности см., напр.: Brown. 2005; совр. состояние дискуссии отражено в сборнике статей: Ancient Gospel or Modern Forgery. 2013). Все аргументы могут быть разделены на исторические, т. е. относящиеся к обстоятельствам открытия письма Смитом и к рукописи письма, и текстологические, т. е. касающиеся содержания документа. Наиболее весомыми историческими аргументами против подлинности письма являются следующие: 1) содержащая письмо рукопись никогда не подвергалась серьезной научной экспертизе; в 1977 г. она была изъята из лавры Саввы Освященного по указанию руководства Иерусалимского Патриархата и до наст. времени остается недоступной исследователям, к-рые вынуждены опираться лишь на 2 комплекта фотографий среднего качества (Carlson. 2005. P. 2); 2) издание, в котором был обнаружен рукописный текст письма, не значится в старых каталогах б-ки лавры Саввы Освященного; в какое время и каким образом оно появилось в лавре - неизвестно; т. о., оно могло быть помещено в б-ку самим Смитом, впосл. «открывшим» рукопись (см.: Ibid. P. 35-42); 3) обстоятельства находки, описанные Смитом, имеют множество параллелей с содержанием амер. приключенческого романа «Тайна монастыря Мар-Саба» (Hunter J. H. The Mystery of Mar Saba. N. Y., 1940; Мар-Саба - название лавры Саввы Освященного на иврите), который впервые вышел в 1940 г. (т. е. до «открытия» Смита) и впосл. неск. раз переиздавался; в романе рассказывается вымышленная история о фальсифицированной рукописи новозаветного отрывка, помещенной в б-ку лавры ученым из нацистской Германии с целью дискредитации христианства (см.: Watson. 2010. P. 163-170); 4) в работах Смита, опубликованных до 1958 г., содержится утверждение о наличии общего источника у Евангелия от Марка и Евангелия от Иоанна, а также предположение, что выражение «тайны Царствия Божия» (Мк 4. 11) может быть связано с «запретными сексуальными отношениями»; т. о., «случайно» найденный текст оказался подтверждением сразу 2 мнений Смита, высказанных до его обнаружения (Carlson. 2005. P. 71-72, 81-83; Watson. 2010. P. 156-161). Из текстологических аргументов наиболее значимы следующие: 1) в источниках никак не отражено существование текста «Тайного евангелия от Марка» до XX в.; о нем не упоминают ни К. А. в др. сочинениях, ни кто-либо еще из древних писателей; нет никаких упоминаний и о письме К. А. Феодору; 2) лексика и стилистика письма могут быть охарактеризованы как «гипер-климентовские»: в письме используются мн. слова, способы выражения и библейские цитаты, характерные для языка К. А.; при этом с т. зр. статистической лингвистики их концентрация в одном кратком тексте является неестественно высокой и выглядит как внешнее навязчивое указание на авторство К. А. (Carlson. 2005. P. 50-54); 3) практика цитирования евангельского отрывка с указанием его точного расположения в тексте Евангелия не свойственна К. А., не имеет логического объяснения в общем контексте письма, т. к. адресату было бы достаточно простой цитаты, и является анахроническим перенесением соврвеменных текстологических принципов и требований в «древний» источник (Ibid. P. 56-58); 4) сопоставление содержания письма с основными сочинениями К. А. демонстрирует, что в случаях смысловых и образных совпадений речь идет не о параллелях, а о заимствованиях; тексты К. А. выступают источниками содержания письма, при этом в нек-рых случаях при сохранении внешней формы высказываний К. А. его идеи оказываются представлены в письме в искаженном виде (ср.: Watson. 2010. P. 133-144, 170). Учитывая наличие этих и др. серьезных аргументов, свидетельствующих о неподлинности письма, мн. ведущие совр. библеисты и патрологи не признают письмо сочинением К. А. и отрицают аутентичность цитируемого в письме «Тайного евангелия от Марка» как раннехрист. источника.
Источники учения К. А. и его отношение к ним
Сочинения К. А. занимают уникальное место в истории раннехрист. литературы по числу используемых и цитируемых в них источников. Согласно подсчетам, произведенным различными исследователями в XX в. с опорой на указатели издания Штелина (см.: Clem. Alex. Werke. 19802. Bd. 4. Tl. 1; ср. также дополнения: Ibid. S. XIX-XXXIV), К. А. упоминает более 400 имен различных авторов; в его произведениях насчитывается ок. 1 тыс. прямых и ок. 1,9 тыс. косвенных цитат из ВЗ; более 1,6 тыс. прямых и более 3 тыс. косвенных цитат из НЗ; ок. 150 прямых и ок. 300 косвенных цитат из сочинений древних христ. писателей; ок. 1 тыс. прямых цитат из нехрист. лит-ры и более 3000 косвенных заимствований, аллюзий, отсылок и реминисценций (Krause. 1958. S. 126, 128; cр.: Stählin. 1934. S. 48-50; Feulner. 2006. S. 47-48). Широкое использование разнородных источников к I-II вв. стало обычной практикой для светской греч. лит-ры и соответствовало присущей эллинизму общей тенденции к эклектике, к синтезу культурного наследия предшествующих эпох, к совмещению изысканной новизны форм и постоянной опоры на древнюю традицию. Напротив, для раннехрист. писателей было характерно умеренное обращение к лит. источникам; у хронологически предшествовавших К. А. апологетов цитаты и заимствования из Свящ. Писания и из греч. литературы занимают более скромное место в текстах и общее число их сравнительно невелико (см. сравнительную таблицу с пояснениями: Krause. 1958. S. 126-141). Постоянное употребление К. А. прямых и косвенных цитат, оговариваемых и неоговариваемых заимствований создает одну из ключевых проблем для исследователей его взглядов, к-рые всякий раз вынуждены определять, в какой мере цитируемый или заимствуемый текст отражает взгляды и убеждения К. А. Корректное выделение собственного философского и богословского учения К. А. неосуществимо без исследования источников К. А. и точного определения смысла, функции и предназначения разнообразных отрывков из чужих сочинений, помещаемых им в собственные тексты.
В исследовательской литературе предлагались как внутренние, так и внешние объяснения многообразия используемых К. А. источников; при этом адекватную картину способно дать лишь совмещение обоих подходов, т. е. выделение персональных особенностей К. А. как писателя, дополняемое указанием на специфические обстоятельства его лит. и учительной деятельности. Личной ученостью и широтой кругозора К. А. восхищались уже древние церковные писатели. Так, свт. Кирилл, архиеп. Александрийский, говорил о нем: «Муж прославленный и любознательный, столь тщательно исследовавший бездну эллинских сочинений, что, пожалуй, лишь немногие из бывших до него могут сравниться с ним в этом» (Cyr. Alex. Contr. Jul. VII // PG. 76. Col. 853). Блж. Иероним замечал, что, по его мнению, К. А. является наиболее образованным из всех раннехрист. писателей (omnium eruditissimus - Hieron. Ep. 70. 4), и называл его сочинения наполненными «ученостью и красноречием», подчеркивая свойственное К. А. умение пользоваться «как Божественным Писанием, так и мирской литературой» (Idem. De vir. illustr. 38). Попытки поставить под сомнение образованность К. А. неск. раз предпринимались в XIX-XX вв., когда нек-рыми исследователями была выдвинута гипотеза, что многочисленные цитаты, приводимые К. А. в сочинениях, были целиком почерпнуты им из антологий, гномологиев и флорилегиев. Абсолютизируя и радикализируя этот подход, отдельные ученые пытались найти и реконструировать некий «основной источник», из к-рого К. А. будто бы заимствовал большую часть философских идей и лит. цитат. В качестве такого источника назывались сочинения стоиков (Wendland. 1886), несохранившиеся произведения философа и ритора Фаворина (Scheck. 1889; Gabrielsson. 1906-1909), устные лекции Пантена (Bousset. 1915) и т. п. Эти и др. исследования убедительно доказали, что К. А. пользовался различными сборниками и действительно нередко цитировал ранних греч. авторов по компилятивным сочинениям позднейших писателей, а не по первоисточникам. Однако, поскольку все попытки найти «основной источник» К. А. оказались несостоятельными и неудачными, в наст. время исследователи корректируют гиперкритический подход и считают, что К. А. был непосредственно знаком со мн. философскими и лит. первоисточниками. При этом К. А. не просто эпигонски переписывал отрывки из той лит-ры, с которой знакомился, но осмыслял и творчески перерабатывал прочитанное и выписанное; об этом свидетельствуют прежде всего многочисленные непрямые аллюзии, в которых на источник, закрепившийся в памяти К. А., указывают лишь отдельные слова или образы, мастерски обыгрываемые им в собственном рассуждении (ср.: Stählin. 1934. S. 48-51; Outler. 1940. P. 221-222; Hoek. 1996. P. 223-224). Познания К. А. в христ. лит-ре были еще более глубокими, чем в светской; в этой сфере его самостоятельность и оригинальность не вызывают сомнений (см.: Harnack. 1904. S. 16). Хотя в отличие от Оригена К. А. мало интересовался историей и текстологией Свящ. Писания, он превосходно ориентировался в текстах ВЗ и НЗ, свободно цитировал и комментировал не только общеизвестные и популярные места, но и отрывки, до него вообще не привлекавшие внимание христ. писателей. О постоянном интересе К. А. к историческому и тематическому развитию основных идей христианства свидетельствует его знакомство с апокрифической раннехрист. литературой и сочинениями христ. еретиков. Т. о., в субъективном отношении обилие используемых К. А. источников отражает присущее ему стремление к расширению, углублению и уточнению познаний, в рамках которого привлечение новых источников означало возможность по-новому взглянуть на некий занимавший К. А. вопрос. Однако постоянное обращение К. А. к разнородным источникам имело и важное объективное значение: как подлинный христианский миссионер и учитель, К. А. осознавал важность соотнесения той истины, к-рая предлагается кому-либо для принятия, с уже сложившимися у людей культурными парадигмами и с привычным для них образом мыслей. Пестрота и разнородность александрийской аудитории требовала необычайной широты познаний от того, кто обращался к ней с христ. проповедью. В этом отношении полезной могла оказаться любая книга и любая цитата: так, напр., на человека, плохо знакомого с сочинениями стоиков, могла оказать воздействие цитата из Платона; внимание презрительно относившегося к философии аристократа мог привлечь уместно приведенный отрывок из Гомера или Еврипида; чуждый светской культуре гностик мог заинтересоваться, услышав обсуждение цитат из сочинений гностических учителей, и т. д. Лично пройдя путь от светской многознающей учености к христ. цельному знанию-гносису, К. А. был убежден в том, что всякий источник, даже содержащий малозначительные и случайные сведения, при его соотнесении с христ. истиной может принести пользу, поскольку окажется дополнительным свидетельством об этой истине (ср.: Ruwet. 1948. P. 84).
Общие формальные и технические принципы, к-рыми руководствовался К. А. при использовании и цитировании источников, были рассмотрены Хук (Hoek. 1996). Анализируя присутствующие в сочинениях К. А. цитаты и заимствования из трудов Филона Александрийского, Хук предложила 2 возможные системы, пригодные для описания отношений между любым лит. источником и текстом К. А. (Ibid. P. 228-229; ср.: Eadem. 1988. P. 20-22). Первая система имеет формально-текстологический характер; она позволяет разделить все случаи заимствования на цитаты (точное совпадение большей части текстов), аллюзии и парафразы (совпадение основной мысли и главных терминов), реминисценции (совпадение идей без совпадения текстов). Вторая система имеет смысловой характер и используется для указания на степень зависимости текста К. А. от заимствуемого текста; в этом отношении заимствования разделяются на 4 класса: 1) несомненное влияние (прямые цитаты и близкие к тексту парафразы); 2) вероятное влияние (парафразы и реминисценции с однозначными смысловыми совпадениями); 3) недоказуемое влияние (реминисценции, очевидные лишь при определенной исследовательской интерпретации); 4) параллельные места (отсутствие влияния при некотором смысловом сходстве, вызванном, напр., использованием общего источника). Поскольку в указателе издания Штелина проведено различение лишь между прямыми цитатами и косвенными зависимостями, использование его информации относительно косвенных источников К. А. должно всегда сопровождаться дополнительной проверкой, позволяющей выявить, о каком виде заимствования идет речь в каждом из случаев. Как и многие древние авторы, К. А. не всегда называет имя цитируемого им автора и источник цитаты. В большинстве случаев он руководствуется общим правилом: если автор или цитата общеизвестны, прямое указание на них может быть опущено, тогда как малоизвестные авторы обычно цитируются с указанием источника. Выражения, специально подчеркивающие точность цитирования (κατὰ λέξιν, ὧδέ πως, и др.), К. А. употребляет сравнительно редко; большая часть цитат вводится обычным «говорит», «говорят» и т. п. (Ibid. P. 233-237; ср.: Афонасин. 2003. С. 32-35). Практика указания источника у К. А. определяется также функцией цитаты: если цитата вводится как основание некоего принципиального положения, то приводится ссылка на источник, обеспечивающий ее авторитетность, тогда как цитаты и заимствования, имеющие иллюстративную функцию, могут вообще никак не выделяться в тексте. При цитировании и заимствовании К. А. нередко радикально вторгается в текст источника: меняет формы слов, переставляет и заменяет слова, сокращает и объединяет фразы и т. п.; иногда неточность цитаты свидетельствует о том, что К. А. приводит текст по памяти. Наиболее точно К. А. цитирует сочинения оппонентов, преимущественно гностиков; обычно близки к текстам источников и поэтические цитаты; в большинстве др. случаев, в т. ч. и при цитировании Свящ. Писания, К. А. допускает изменения в текстах, впрочем всегда сохраняя их основной смысл. Особым случаем являются заимствования из сочинений авторов, к-рых К. А. не рассматривал ни в качестве авторитетных источников, ни в качестве прямых оппонентов; к их числу относятся, напр., стоик Музоний Руф, Филон Александрийский, апологет Татиан, неизвестные авторы философских учебников и т. д. Пользуясь сочинениями этих писателей, близких к нему по времени и одинаковых с ним по степени авторитетности для читателя, К. А. никак не оговаривает заимствования из них и помещает необходимый ему материал в собственный текст, стилистически и композиционно видоизменяя и корректируя его.
В науке XIX-XXI вв. были предложены обстоятельные исследования отношения К. А. ко многим используемым им источникам: к ВЗ (Stählin. 1901), к НЗ (Brooks. 1966; Idem. 1992; Zaphiris. 1970; Mees. 1970; Cosaert. 2008), к сочинениям Филона Александрийского (Heinisch. 1908; Hoek. 1988; Runia. 1993), к философским сочинениям стоиков (Wendland. 1886; Pohlenz. 1943; Spanneut. 1957), к учению Платона и платоников (Outler. 1940; Wyrwa. 1983; Riedweg. 1987), в т. ч. бывших современниками К. А. представителей среднего платонизма (Lilla. 1971), к гностическим учителям и их сочинениям (Bolgiani. 1967; Kovacs. 1978; Procter. 1995). Основным недостатком, присущим мн. работам, в которых анализируются нехристианские источники К. А., является подчеркивание и абсолютизация значения того или иного влияния; рассматриваемый источник нередко преподносится как «ключ» ко всему мировоззрению К. А., позволяющий отнести его к тому или иному идейному направлению и интерпретировать в свете этого направления всю систему его взглядов. При этом совр. исследователи зачастую игнорируют, что К. А., как и др. христ. писатели, исходит из идеальной иерархии источников, представление о к-рой прямо или косвенно многократно выражено в его сочинениях (см., напр.: Clem. Alex. Strom. I 20. 98. 4; VI 8. 67. 1-2; VII 16. 104. 1). Общее правило, позволяющее упорядочивать все источники иерархически, у К. А. тесно связано с представлением о цели христ. познания и о промыслительной деятельности Логоса, ведущего все человечество и каждого человека от тьмы неведения к полноте истинного знания-гносиса. Ценность и значение человеческих «слов», т. е. отдельных положений и тезисов, из к-рых складываются системы знания, всецело определяется степенью их соответствия Божественному Слову-Логосу, обращающемуся к людям в Свящ. Писании и церковном учении. Поскольку проведение такого соответствия является субъективной задачей христ. мыслителя, при его практическом осуществлении неизбежны погрешности и ошибки, вызванные слабостью и ограниченностью человеческого разума, к-рые приводят к принятию собственных рациональных конструкций в качестве чего-то безусловно истинного. Однако, по мысли К. А., именно постоянная твердая ориентация разума на следование правильной иерархии источников знания гарантирует, что эти ошибки будут выявлены и исправлены (ср.: Ibid. VII 16. 96). Иерархическим соотношением источников определяется иерархическая важность связанных с ними положений учения К. А.: положения, прямо основывающиеся на Свящ. Писании и церковном Предании, имеют для К. А. абсолютное значение и являются безусловно истинными, тогда как соотносимые с ними положения, заимствуемые из др. источников, значимы лишь как относительные иллюстрации и способы интерпретации, подводящие к истине или отражающие ее с некой стороны, но не передающие ее полноты (ср.: Ruwet. 1948. P. 80-91; Brooks. 1992. P. 49).
Священное Писание
Неоспоримым внешним свидетельством, подтверждающим первостепенную важность для К. А. Свящ. Писания как вероучительного источника, является постоянное обращение К. А. к библейскому тексту: число прямых цитат и заимствований из Свящ. Писания у К. А. в 2 раза превышает число ссылок на всю проч. лит-ру, вместе взятую. При этом к книгам НЗ К. А. обращался в 2 раза чаще, чем к книгам ВЗ (из христ. писателей I-II вв. похожее соотношение ВЗ и НЗ прослеживается только у сщмч. Иринея, еп. Лионского; см.: Krause. 1958. S. 128), отражая тем самым происходившее в его время закрепление особого статуса новозаветных книг, к-рые по степени авторитетности для христ. Церкви стали приближаться к книгам ВЗ и превосходить их.
В качестве источника текста ВЗ К. А. использовал греч. Септуагинту (LXX); евр. языка он не знал и к оригинальному евр. тексту не обращался. Признавая LXX авторитетным и богодухновенным текстом, К. А. пересказывал известную из евр. источников историю создания 70 старцами греч. перевода ВЗ и отмечал, что появление этого перевода имело промыслительное значение: «Божий промысел способствовал тому, чтобы Писание достигло ушей эллинов» (Clem. Alex. Strom. I 22. 149. 2); «Писание было переведено на язык эллинов с той целью, чтобы они не могли привести никакого оправдания в своем неведении, поскольку, если бы только они пожелали, они могли бы услышать наши [учения]» (Ibid. 7. 38. 3). Согласно выводам Штелина, цитируемый К. А. текст греч. ВЗ, в особенности для пророческих книг, нередко отличается от нормативного в александрийской традиции текста Ватиканского кодекса (B) и сближается с текстом, известным как редакция Феодотиона (θ); при этом наличие текстуально различных цитат одного и того же места ВЗ (см. цитату Иез 18. 4-9: Clem. Alex. Paed. I 10. 95. 1-2; Strom. II 22. 135. 1-2; ср.: Stählin. 1901. S. 68-71) свидетельствует о том, что К. А. пользовался не одной, а несколькими рукописями LXX, вероятно, содержавшими разные редакции текста (Stählin. 1901. S. 76-77; Idem. 1934. S. 50). К. А. не делал никакого различия между каноническими и второканоническими (неканоническими) книгами ВЗ, считая равными по вероучительному значению все вошедшие в LXX книги. Из книг греч. ВЗ К. А. ни разу не упоминал и не цитировал книгу Руфь, книгу пророка Авдия, Иеремии послание, книгу Песнь Песней Соломона, Третью и Четвертую Маккавейские книги. Отсутствие упоминаний большинства этих книг можно считать случайным; нет оснований полагать, что К. А. сомневался в их каноничности. Напротив, игнорирование книги Песнь Песней выглядит намеренным и, возможно, является отражением либо споров о каноническом статусе книги, существовавших среди евр. учителей, либо собственного настороженного отношения К. А. к представленному в книге подробному описанию любовных отношений (см.: Tollinton. 1914. Vol. 2. P. 168-171; Ruwet. 1948. P. 93-94; Brooks. 1992. P. 41-42). К. А. знал и значительное число ветхозаветных и межзаветных апокрифов, как примыкающих в рукописной традиции к LXX, так и самостоятельных (подробнее см.: Ruwet. 1948. P. 241-268).
Вопрос об используемом К. А. тексте НЗ был в XX в. предметом неск. специальных исследований и многочисленных дискуссий. В наст. время считается, что К. А. опирался на разные типы текста для различных книг НЗ (о типах текста см. в ст. Текстология библейская), т. к. в его время единая рукописная традиция НЗ в Александрии еще не сложилась и он вынужден был пользоваться разными по происхождению рукописями. Цитируемый К. А. текст синоптических Евангелий и Деяний св. апостолов близок к зап. типу; текст Евангелия от Иоанна в большей степени соответствует раннему александрийскому типу; отдельные евангельские чтения совпадают с чтениями, впосл. закрепившимися в византийском типе (подробный анализ см.: Cosaert. 2008). Текст Посланий ап. Павла и соборных Посланий апостолов в целом близок к александрийскому типу, однако содержит значительное число нехарактерных для этого типа чтений, к-рые отчасти были почерпнуты из доступных К. А. рукописей НЗ разных типов, а отчасти отражают личное вмешательство К. А. в текст. Из 27 принятых ныне канонических книг НЗ К. А. знал 23 и цитировал 22 (общий обзор см.: Brooks. 1992. P. 42-44). Цитаты из Первого послания Петра К. А. дважды вводит словами: «Петр в своем послании» (Clem. Alex. Strom. III 18. 110. 1; IV 20. 129. 2), не упоминая номера; поэтому, вероятнее всего, Второго послания Петра он не знал. О Первом послании Иоанна К. А. говорит как о «более пространном» (Strom. II 15. 66. 4); т. о., он знал, но не цитировал Второе послание Иоанна и, предположительно, не знал Третье послание Иоанна. Возможно, он знал Послание ап. Павла к Филимону, однако не имел повода его процитировать. Наиболее загадочным является отсутствие у К. А. цитат из Послания Иакова и упоминаний о нем; хотя в указателе издания Штелина приводится список возможных аллюзий и параллелей (см.: Clem. Alex. Werke. 19802. Bd. 4. Tl. 1. S. 25), все они неочевидны и не позволяют с уверенностью утверждать, что К. А. знал это Послание (Brooks. 1992. P. 43). Согласно еп. Евсевию Кесарийскому, К. А. считал автором Послания к Евреям ап. Павла; объясняя в «Очерках» очевидное стилистическое отличие этого Послания от др. Посланий ап. Павла, К. А. заявлял, что первоначально Послание было написано ап. Павлом по-еврейски, а на греческий язык его перевел ап. Лука (Euseb. Hist. eccl. VI 14. 2-4 = Clem. Alex. Fragm. 22). Из не принятых Церковью в канон Евангелий апокрифических К. А. цитировал «Eвангелие египтян» (CANT, N 14; анализ использования см.: Le Boulluec. 2007), «Eвангелие евреев» (CANT, N 11), «Предания Матфия» (Idem, N 17) и «Протоевангелие Иакова» (Idem, N 50). К. А. приводит без ссылок на источники ок. 30 аграфа, т. е. высказываний Иисуса Христа, которые не могут быть с уверенностью возведены к известным ныне каноническим евангельским текстам; возможно, часть из них была заимствована им из апокрифов, а часть восходила к устному преданию (об аграфа у К. А. см.: Ruwet. 1949). На примере отношения К. А. к «Евангелию египтян» видно, что он отделял четыре Евангелия, «переданных» (παραδεδομένοι) христианам, т. е. ставших частью хранимого Церковью Предания, от всех прочих евангельских текстов, не имеющих прямого церковного авторитета и истинных лишь настолько, насколько их свидетельство согласуется с церковным учением (см.: Clem. Alex. Strom. III 13. 93. 1). Согласно свидетельству еп. Евсевия Кесарийского, К. А. в «Очерках» сообщал церковное предание об обстоятельствах и времени создания 4 канонических Евангелий; он утверждал, что первыми были созданы Евангелия, содержащие родословия (т. е. Евангелия от Матфея и от Луки); Евангелие от Марка он считал сделанной ап. Марком записью проповеди ап. Петра; Евангелие от Иоанна, написанное последним, К. А. называл «духовным Евангелием» (Euseb. Hist. eccl. VI 14. 5-7 = Clem. Alex. Fragm. 8; ср.: Ibid. II 15. 2; комментарий см.: Merkel. 1984; Carlson. 2001). Из апокрифических апостольских деяний (см. в ст. Апокрифы) К. А. неск. раз цитировал «Проповедь Петра» (CANT, N 208); он является основным источником сведений об этом раннехрист. памятнике. Возможно, он также знал «Деяния Иоанна» (Idem, N 215.1) и некий апокриф, содержавший высказывания, приписанные ап. Павлу (см.: Clem. Alex. VI 5. 43. 1-2). Из свидетельства еп. Евсевия Кесарийского известно, что К. А. в «Очерках» предлагал толкования к «Апокалипсису Петра» (CANT, N 317); этот текст дважды цитируется в соч. «Извлечения из пророческих писаний» (см.: Clem. Alex. Eclog. proph. 41, 48). Из включавшихся в нек-рых раннехрист. общинах в канон НЗ писаний мужей апостольских К. А. цитирует 1-е Послание сщмч. Климента, еп. Римского (CPG, N 1001), и псевдоэпиграфическое Послание апостола Варнавы (Idem, N 1050); при этом обоих авторов он именует «апостолами» (см.: Clem. Alex. II 6. 31. 2; IV 17. 105. 1). В издании Штелина указаны возможные аллюзии К. А. к Посланиям сщмч. Игнатия Богоносца и к Посланию к Филиппинцам сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (CPG, N 1040), однако знание им этих текстов неочевидно (Brooks. 1992. P. 46). К. А. знал и цитировал «Дидахе» и соч. «Пастырь» (CPG, N 1052) Ермы; он признавал описанные Ермой видения божественным откровением (Clem. Alex. Strom. I 29. 181. 1; II 1. 3. 5; VI 15. 131. 2-3; подробнее см.: Batovici. 2013). Апокрифические деяния апостолов и писания мужей апостольских К. А. в большинстве случаев цитировал как Свящ. Писание, иногда прямо вводя отрывки из них формулой: «Писание говорит...», и т. п.; т. о., можно заключить, что они обладали для него авторитетом, равным авторитету основных книг НЗ (подробнее см.: Ruwet. 1948. P. 391-405). Однако число цитат из апокрифов по сравнению с числом цитат из канонических книг НЗ у К. А. ничтожно мало, вследствие чего говорить об определяющем влиянии содержания апокрифических книг на мировоззрение и учение К. А. невозможно; речь может идти лишь о заимствовании отдельных идей (Brooks. 1992. P. 47-48). Отсутствие у К. А. характерного для мн. последующих церковных писателей внимательного отношения к вопросу о каноне НЗ (см. в ст. Канон библейский) во многом объясняется присущей ему уверенностью в том, что даже текст, происхождение к-рого не вполне ясно, может рассматриваться как часть Свящ. Писания, если он понимается в соответствии с «церковным каноном», т. е. с общими принципами интерпретации священных текстов, предполагающими толкование не вполне ясных текстов в свете др. текстов, определенное понимание к-рых уже закрепилось в церковном Предании.
Выделяя Свящ. Писание как наиболее авторитетный источник истинного знания, К. А. подчеркивал божественное происхождение, богодухновенность и спасительность Писания; по его словам, «Бог руководит нами через богодухновенные Писания (κατὰ τὰς θεοπνεύστους γραφάς)» (Clem. Alex. Strom. VII 16. 101. 5), высшее назначение к-рых состоит в том, чтобы делать человека «святым и божественным» (ἱεροποιοῦντα κα θεοποιοῦντα - Protrept. 9. 87. 2). Для указания на Бога, открывающего Себя людям в Свящ. Писании, К. А. употреблял в разных контекстах различные имена Божии: Бог, Господь, Логос, Св. Дух (см., напр.: Ibid. 1. 8. 4; 8. 78. 1; 9. 82. 1; Strom. III 2. 8. 5); книги Свящ. Писания - это голос Господа, а их авторы - уста Господни, т. к. в них и через них говорит Св. Дух (см., напр.: Protrept. 1. 8. 3; Paed. I 9. 78. 4; 6. 49. 2; Clem. Alex. Strom II 2. 9. 6; VI 18. 168. 3; ср.: Mondésert. 1944. P. 82-84). К. А. считал ВЗ и НЗ происходящими от одного Бога и в силу этого тождественными по их богооткровенной природе: «Начало нашего учения - это Сам Господь, многократно и многообразно через пророков, Евангелие и блаженных апостолов от начала до конца руководящий нашим познанием» (Strom VII 95. 3); «Один и Тот же [Бог] есть Законодатель и Евангелист» (Ibid. III 12. 83. 4; ср.: Ibid. IV 1. 2. 2). Греч. слово διαθήκη К. А. употреблял в двойном значении: и в традиц. широком значении «завет-договор», и в возникшем в христ. лит-ре узком значении «письменный завет», т. е. совокупность священных книг, содержащих необходимое для спасения откровение Божие (подробный анализ см.: Schneider. 1999. S. 85-123). К. А. упоминал ВЗ и НЗ как по отдельности, так и вместе, обозначая их термином «два Завета» (см., напр.: Clem. Alex. Strom V 6. 38. 5); при этом, определяя их отношение друг к другу, он замечал, что единая истинная Церковь объединяет всех праведников, принадлежащих к ней, в единой вере, «основывающейся на особых заветах, а точнее, на едином завете, [по-разному открываемом] в различные времена (τὴν διαθήκην τὴν μίαν διαφόροις τοῖς χρόνοις)» (Ibid. VII 17. 107. 5; II 6. 29. 2; ср.: Brooks. 1992. P. 49-51). К. А. неоднократно говорил о «связанности» (ἀκολουθία) и гармонии ВЗ и НЗ, отмечая, что признание их единства является важным отличием христ. учения от взглядов мн. еретиков (см.: Clem. Alex. Strom. VII 16. 100. 5; ср.: Daniélou. 1961. P. 217; Rizzerio. 1987). Полагая, что содержание книг ВЗ и НЗ одинаково истинно и спасительно, К. А. вместе с тем различал ВЗ и НЗ по их предназначению. Задачей книг ВЗ, согласно К. А., было приготовление иудеев к пришествию Иисуса Христа и принятию спасительного учения Евангелия: «Вера во Христа и знание Евангелия есть истолкование и исполнение закона» (Clem. Alex. Strom. IV 19. 134. 3). Т. о., ВЗ может быть верно понят и объяснен лишь в свете НЗ, «потому что Спаситель Своим воплощением объяснил Его» (Ibid. 4; ср.: Mondésert. 1944. P. 97-113).
В учении о способах и методах истолкования Свящ. Писания К. А. исходил из убеждения в том, что помимо букв. смысла высказываний в Писании всегда наличествует сокрытый духовный смысл, постижение к-рого доступно немногим «гностикам», т. е. совершенным христианам. Согласно К. А., необходимость использования духовных методов толкования объективно обусловлена тем, что в Свящ. Писании многое сказано «посредством загадок» (δι᾿ αἰνιγμάτων) и «в притчах» (διὰ παραβολῶν), поэтому для постижения смысла сказанного недостаточно интеллектуальных усилий человека и обычных инструментов познания, но требуется «научение от Бога», открывающее сокровенное (Clem. Alex. Paed. III 12. 97-98; ср.: Strom. I 9. 45. 1-2). При изучении Свящ. Писания человек призван всегда двигаться от «плотского» к «духовному» пониманию: «Спаситель... научает всему посредством божественной и таинственной премудрости (θείᾳ σοφίᾳ κα μυστικῇ), поэтому и нам следует не слушать плотским образом, но посредством приличествующего исследования и сопоставления разыскивать и изучать заключенный в Его словах сокрытый смысл (κεκρυμμένον νοῦν)» (Quis div. salv. 5. 2). Средством приобретения духовного понимания для К. А. является символико-аллегорическая интерпретация священного текста, «символическое истолкование» (τὸ τῆς συμβολικῆς ρμηνείας εἶδος - Clem. Alex. Strom. V 8. 46. 1). Понятия «обозначать аллегорически» и «быть символом» К. А. употреблял синонимично; так, в «Строматах» он писал: «Египет аллегорически обозначает мир» (Ibid. I 5. 30. 4); «Египет есть символ мира» (Ibid. II 10. 47. 1; ср. также: Paed. II 8. 61-62; I 6. 38. 2). При этом под аллегорией К. А. понимал не просто внешний риторический прием, т. е. любое речевое иносказание, но символическое выражение чего-то таинственного и сокрытого при помощи чего-то ясного (ср.: Boer. 1940. P. 23-25, 32, 143). К. А. считал, что практика символико-аллегорического толкования Свящ. Писания узаконена христ. преданием, и ссылался на использование разного рода символических обозначений Иисусом Христом и апостолами (см., напр.: Clem. Alex. Paed. I 7. 53. 1-3; Strom. V 8. 55. 1-3; 10. 63. 1-6; 12. 80. 6-9; VI 15. 125. 1-2). Вместе с тем на общие представления К. А. об аллегорическом методе толкования текстов серьезное влияние оказала философская (гл. обр. пифагорейско-платоническая и стоическая) традиция символической экзегезы, а конкретные приемы аллегорического толкования и образцы интерпретации отдельных отрывков из ВЗ К. А. во мн. случаях заимствовал из сочинений Филона Александрийского (см.: Mondésert. 1944. P. 131-152).
В исследовательской лит-ре предпринимались различные попытки систематизации и классификации экзегетических методов и герменевтических подходов К. А. Строго отличая буквально-исторический способ толкования Свящ. Писания от способов духовной интерпретации, К. А. в то же время не имел сложившейся системы классификации этих способов; он считал «духовным» любой способ непрямого и символического толкования, используя весьма подвижную терминологию (анализ см.: Boer. 1940. P. 23-34). Рассуждая о законе ВЗ, К. А. выделял 4 части «моисеевой философии», т. е. учения, к-рое «совершенные в вере» могут извлечь из Свящ. Писания ВЗ: «историческую» (ἱστορικόν), «законодательную» (νομοθετικόν), «священнодейственную» (ἱερουργικόν), «богословскую» (θεολογικόν), при этом 2 последние части связаны с духовным созерцанием тварного мира и Бога (Clem. Alex. Strom. I 28. 176. 1-2; ср. также: Ibid. 179. 1; комментарий см.: Boer. 1940. P. 54-57; Schneider. 1999. S. 140). Согласно К. Мондезеру, предложившему обобщение рассуждений К. А., при толковании Свящ. Писания К. А. различал, не выражая этого эксплицитно, 5 основных «смыслов» текста, каждому из к-рых соответствует особый способ интерпретации (см.: Mondésert. 1944. P. 153-162; ср.: Schneider. 1999. S. 124. Not. 80): 1) исторический (буквальный); 2) доктринальный (буквальный; разъяснение прямо выраженного в тексте морального или религ. учения); 3) пророческий, или типологический (буквально-духовный; пророчество может как содержаться в самом тексте, но быть неясным без духовного толкования, так и быть соотнесено с текстом внешним образом в результате соответствующей интерпретации); 4) философско-аллегорический (духовный; букв. содержание текста дополняется или замещается космологической или антропологической интерпретацией); 5) мистико-аллегорический (духовный; букв. смысл дополняется или замещается описанием движения человеческой души к Богу и изложением мистического учения о Боге). В большинстве случаев букв. и духовный смыслы К. А. рассматривал не как противостоящие друг другу, а как взаимодополняющие. Напр., десять заповедей ВЗ имеют очевидный для всякого человека доктринальный смысл, однако они могут быть также истолкованы духовно, став для человека источником таинственно выраженного в них истинного знания о Боге (толкование см.: Clem. Alex. Strom. VI 14. 133-148). Нек-рые места Свящ. Писания, однако, при их букв. понимании оказываются неясными, противоречивыми или соблазнительными (напр., антропоморфные описания Бога; см.: Ibid. V 11. 71. 4); в таких случаях, согласно К. А., духовное толкование должно полностью замещать букв. понимание (ср.: Mondésert. 1944. P. 136-137). Типологический способ духовного толкования К. А. использовал для книг ВЗ, интерпретируя описываемые в них события и передаваемые пророческие высказывания как сокровенное указание на явление в мир Иисуса Христа и на события Его земной жизни, т. е. как «прообраз» (τύπος; см., напр.: Clem. Alex. Strom. II 5. 20. 2; V 8. 55. 1). Характерным примером использования этого способа является рассуждение К. А. об Исааке, который есть «прообраз Господа» (см.: Paed. I 5. 23. 1-2; ср.: Mondésert. 1944. P. 156-158; Сидоров. 1998. С. 91). В отличие от типологического способа аллегорический способ в собственном смысле К. А. применял ко всему Свящ. Писанию (подробнее о различных трактовках соотношения типологии и аллегории у К. А. см.: Schneider. 1999. S. 152-160). Аллегорические толкования интерпретируют священный текст не как конкретное преобразовательное указание на Иисуса Христа, но целиком абстрактно, как выражение некоего общего философского или богословского учения. Напр., насажденное Богом в раю древо жизни (см.: Быт 2. 9) обозначает, согласно К. А., пребывающее в мире «божественное разумение» (Clem. Alex. Strom. V 11. 72. 2). Две скрижали с заповедями ВЗ обозначают «небо и землю» и указывают на «сотворение мира» (философская аллегория), они же «пророчески указывают на два Завета, Ветхий и Новый» (мистическая аллегория), т. к. «духовные заповеди записаны дважды» (Ibid. VI 16. 133. 2, 5). Пятая заповедь, предписывающая почитать отца и мать, в мистической аллегории указывает на необходимость чтить Бога как Отца и Господина всего и Премудрость как Мать (Ibid. 146. 1-2). Заповедь, запрещающая убийство, при аллегорическом толковании оказывается обращенной против того, «кто стремится разрушить истинное знание о Боге» (Ibid. 147. 2). Свойственную К. А. практику параллельного применения различных способов букв. и символико-аллегорического толкования к одному тексту Свящ. Писания лучше всего демонстрирует рассмотрение им отрывка из Евангелия от Матфея: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18. 20). Рассуждая о том, кто есть эти «трое», К. А. приводит неск. «троек», соответствующих разным видам толкования: муж, жена, ребенок (буквально-доктринальное); страсть, желание, разум; тело, душа, дух (философская аллегория); призванные, избранные, прославленные; язычники, иудеи, христиане; истинный гностик, соединяющий знание, веру и любовь в одно неделимое целое и пребывающий с Господом (мистическая аллегория; см.: Clem. Alex. Strom. III 10. 68-70; ср.: Mondésert. 1944. P. 159-160). Хотя К. А. пользовался устойчивыми системами символов и аллегорическими образами, он не считал определенное аллегорическое толкование нек-рого места Свящ. Писания единственно возможным и безусловно истинным; текст Свящ. Писания всегда оставался для него первичным и абсолютным, тогда как различные толкования были лишь относительными способами соприкосновения разума с этим текстом (анализ использовавшихся К. А. аллегорий и аллегорического метода в целом см.: Boer. 1940. P. 73-123; Mondésert. 1944. P. 187-262; Daniélou. 1961. P. 218-229; Schneider. 1999. S. 169-192).
Церковное Предание
Необходимость обращения к церковному Преданию как к вероучительному источнику, по своему статусу и роли тесно связанному со Свящ. Писанием, К. А. обосновывал в контексте рассуждения о «критерии» истины и лжи в религ. области (κριτήριον - одно из центральных понятий теории познания в школах эллинистической философии, к-рое использовалось для обозначения основания, позволяющего выносить суждение об истинности знания; см. в ст. Истина). Подчеркивая, что христиане и еретики одинаково ищут подтверждения для своих взглядов в Свящ. Писании, К. А. отмечал, что различие между истинной и ложной интерпретациями Свящ. Писания проистекает из различного отношения христиан и еретиков к церковному Преданию (см.: Clem. Alex. Strom. VII 16. 93-94). Критерием христианской истины, согласно К. А., является Свящ. Писание, содержащее слова и учение Господа (Ibid. 16. 95. 3-4); однако, поскольку Свящ. Писание может быть истолковано различно, его использование в качестве критерия невозможно без руководства церковного Предания.
Обозначающий предание греческий термин παράδοσις неоднократно встречается в сочинениях К. А., который употреблял его как в общем смысле, сложившемся в греч. религии и философии, так и в особом христ. значении (обзор и анализ употреблений см.: Münch. 1968. S. 20-66). «Предание» в наиболее широком смысле - это некое учение, преходящее от учителя к ученику; так, К. А. мог говорить о «предании» применительно к греч. мистериальным практикам (см.: Clem. Alex. Strom. VII 4. 27. 6), к философскому знанию о Боге (Ibid. VI 10. 82. 4) и т. п. Христ. учение также может считаться преданием в широком смысле, однако специфика христ. Предания задается особым порядком передачи учения, первичным источником которого является Бог, а не земные учителя и мудрецы. Говоря о христ. Предании в собственном смысле, К. А. обычно выделял его с помощью характеристик «гностическое» (γνωστική; см.: Ibid. I 1. 15. 2; V 10. 63. 2; V 10 64. 5; VI 7. 61. 1) и «церковное» (ἐκκλησιαστική; см.: Ibid. VII 16. 95. 1; Eclog. proph. 27. 1); при этом 1-я характеристика является в большей степени указанием на содержание Предания, а 2-я - на способ его передачи и хранения.
Содержанием христ. Предания, согласно К. А., является «гносис», т. е. высшее знание о Боге, источником к-рого может быть только Сам Бог. В «Строматах» К. А. утверждал: «...мы называем мудростью как Самого Христа, так и Его действие через пророков, посредством которого оказывается возможным постижение гностического Предания, как Он Сам научил святых апостолов во время Своего пришествия; поэтому гносис есть мудрость твердая и незыблемая, являющаяся знанием и постижением настоящего, прошедшего и будущего, переданная (παραδοθεῖσα) и открытая Сыном Божиим... Этот гносис, устно переданный апостолами, дошел от них благодаря преемству до немногих людей» (Strom. VI 7. 61. 1, 3). Т. о., «гностическое Предание» - это высшее учение о Боге, сообщенное Иисусом Христом апостолам и позволившее впервые правильно понять смысл «пророческих писаний», т. е. книг ВЗ. Одновременно Предание - это вверенное апостолами немногим людям, а именно «пресвитерам» или «истинным гностикам», тайное учение о смысле Боговоплощения и путях богоуподобления, т. е. высшая часть догматического и мистического учения христианства, оставшаяся невыраженной в книгах НЗ и передававшаяся устно от учителя к ученику (ср.: Eynde. 1933. P. 220-226; Сидоров. 1998. С. 94-95). При этом тайное учение Предания, по мысли К. А., не содержит чего-то радикально нового по сравнению с открыто хранимым и проповедуемым в христианской Церкви учением Свящ. Писания, т. е. ВЗ и НЗ. Предание не отменяет и не подменяет Свящ. Писание; напротив, оно является «ключом» (κλείς), позволяющим правильно интерпретировать духовный смысл Писания и использовать Писание как источник вероучительных истин. Еретики, обращаясь к тому же Свящ. Писанию, лишены «ключа» Предания, поэтому они «используют отмычку» (ἀντίκλεις), т. е. собственные произвольные домыслы; они входят не в переднюю дверь, открытую для христиан благодаря «Преданию Господа» (διὰ τῆς τοῦ κυρίου παραδόσεως), но в «боковую дверцу», и «украдкой подкапывают церковные стены», становясь учителями не благочестия, а нечестия (Clem. Alex. Strom. VII 17. 106. 1-2; Ibid. 103. 5; ср.: Daniélou. 1972. P. 11-12; Сидоров. 1998. С. 93-94).
В отличие от мн. др. раннехрист. церковных писателей К. А. подчеркивал индивидуальный характер передачи Предания и почти ничего не говорил о значении церковной иерархии и церковной общины как хранителей Предания. Разработанное сщмч. Иринеем, еп. Лионским, представление об апостольском преемстве епископов, надзирающих за чистотой церковного Предания (см.: Iren. Adv. haer. III 3-4), было неизвестно и чуждо К. А., к-рый связывал процесс распространения Предания исключительно с индивидуальной учительной деятельностью (см.: Clem. Alex. Strom. I 1. 11. 3; I 12. 56. 2; ср.: Eynde. 1933. P. 219-223; Daniélou. 1972. P. 13). В «Очерках» возникновение и первичная передача Предания описывались как процесс распространения «гносиса» в узком кругу избранных «гностиков»: «Иакову Праведному, Иоанну и Петру Господь по Воскресении передал гносис (παρέδωκεν τὴν γνῶσιν); они передали его остальным апостолам, а остальные апостолы - семидесяти, одним из которых был Варнава» (Clem. Alex. Fragm. 13; ср.: Strom. VI 8. 68. 2). Считая, что передача Предания - это функция обладающих личной духовной способностью к этому учителей, а не церковной иерархии, К. А. тем не менее не соглашался с представителями еретического гностицизма, которые противопоставляли духовное «гностическое предание» церковному учению и использовали учение о «тайном предании» для критики христ. Церкви. К. А. был убежден в том, что истинное христ. Предание и учение Церкви, не являясь полностью тождественными по содержанию, вместе с тем всецело согласны между собой и дополняют друг друга. По мысли К. А., поскольку апостолы, к которым восходит христ. Предание, ничему не учили от самих себя, но проповедовали единое учение Иисуса Христа, истинное Предание во всех христианских общинах, следующих апостольскому учению, не может быть различным: «У всех апостолов как учение, так и предание - едино» (Strom. VII 17. 108. 1). К. А. подчеркивал, что усвоение Предания является обязанностью христиан, стремящихся к гностическому совершенству: «Залог, возвращаемый Богу, есть уразумение и исследование благочестивого Предания (τῆς θεοσεβοῦς παραδόσεως), которое согласно с учением Господа и дано через Его апостолов»; при этом постижение Предания всегда сопряжено с обращением к Свящ. Писанию, поскольку знающие Предание призваны «с уверенностью принимать, с воодушевлением передавать и в соответствии с правилом истины объяснять Писания» (Ibid. VI 15. 124. 4-5; ср.: Daniélou. 1972. P. 7-8; в рус. пер. Афонасина (Строматы. 2003) смысл этого отрывка полностью искажен). Поскольку усвоение и передача Предания, по мысли К. А., являются не только личным делом гностика, но и христ. церковным служением, индивидуальный и церковный аспекты существования Предания для К. А. не противоречат друг другу. По справедливому замечанию Ж. Даниелу, тайное гностическое предание у К. А. есть часть церковного Предания в широком смысле; если в церковном Предании всем христианам передается «содержание веры», т. е. непосредственно вероучение, то в гностическом предании избранным христианам предлагается «понимание веры», т. е. объяснение внутреннего смысла христ. вероучения; однако само вероучение при этом всегда тождественно (Daniélou. 1972. P. 13-14). На церковный характер Предания у К. А. указывает многократно используемое им понятие «церковное правило» (или «церковный канон»; ἐκκλησιαστικὸς κανών), к-рое связывается с понятием «предание» в выражении «славное и досточтимое правило Предания» (εὐκλεὴς κα σεμνὸς τῆς παραδόσεως κανών - Clem. Alex. Strom. I 1. 15. 2), заимствованном К. А. из 1-го Послания к Коринфянам сщмч. Климента Римского (см.: Clem. Rom. Ep. I ad Cor. 7. 2). «Церковное правило» - это совокупность всего содержимого Церковью истинного «учения Господа», органичное соединение Свящ. Писания и христ. Предания, отражающее единство реальной церковной жизни (Clem. Alex. Strom. VI 15. 125. 3; 18. 165. 1; VII 7. 41. 3; 15. 90. 2; 16. 105. 5; подробнее см.: Ohme. 1998. S. 122-155).
Анализ использования К. А. церковного Предания в качестве источника вероучительных истин затруднителен вслед. неоднократно высказываемой К. А. убежденности в том, что Предание изначально имеет устный характер и не предназначается для записи и общедоступного распространения. Т. о., применительно к сочинениям К. А. можно говорить не о прямом выражении, но лишь о косвенном отражении в них того, что он считал церковным Преданием. По словам К. А., в письменных сочинениях он рассеивал лишь «искры догматов истинного гносиса», наблюдая за тем, чтобы обнаружение «священных Преданий» не оказалось слишком легким для непосвященных, т. е. для находящихся вне христ. Церкви (Clem. Alex. Strom. VII 18. 110. 4). Ссылками на Предание у К. А. могут подкрепляться рассуждения из самых различных областей, от церковно-исторических справок (напр., изложение учения о порядке создания Евангелий) до мистико-символических экскурсов. При этом в своей основе Предание для К. А. является не статичным набором заученных теоретических положений, но динамичной практикой рассмотрения текстов Свящ. Писания в свете полученного от Иисуса Христа и апостолов «истинного знания». Т. о., Свящ. Писание и церковное Предание у К. А. являются не 2 источниками христ. вероучения, а единым источником, т. к. лишь через их единство человек может получить доступ к полноте содержания христ. откровения и превратить всю свою жизнь в «следование Преданию Господа» (Ibid. 16. 104. 2; ср.: Daniélou. 1972. P. 14-16).
Античная и эллинистическая философия
В основе отношения К. А. к философии лежит определяющее все его рассуждения, но не эксплицируемое и не разъясняемое им представление о существенном различии между философией как историческим явлением и философией как особой формой приобретения и передачи знания. Наличие этих 2 взаимосвязанных, но не сводимых друг к другу смыслов не всегда учитывалось исследователями, вслед. чего во мн. научных работах, посвященных анализу отношения К. А. к философии, его взгляды по этому вопросу получали противоречивые и неточные оценки. Согласно К. А., философия как историческое явление существует в виде различных греч. философских школ, к-рые возникли в античности, развились в эпоху эллинизма и продолжали существовать в его время. Для каждой из философских школ характерна определенная система основных положений и развитое учение; при этом ни одна из этих систем и ни одно из этих учений, по убеждению К. А., не выражает полноты истины и всегда содержит некие заблуждения и ошибки (см.: Clem. Alex. Strom. VI 7. 55. 4). С исторически сложившейся философией К. А. соотносит философию как идеализированную форму познания. С одной стороны, она является выборкой из исторически сложившихся философских систем всего наилучшего, т. е. согласующегося с христ. мировоззрением; с др. стороны, она есть прямое следствие богоподобия человеческого разума, созданного Богом по образу Божественного Логоса и в силу этого способного организовывать и упорядочивать содержание познания по определенным «логическим» законам, задаваемым самой природой человека. Т. о., историческая философия есть лишь относительная форма существования философского знания, к-рое представляет собой результат природной и богоустановленной деятельности человеческого разума. В «Строматах» двойственный характер философии К. А. выражает через противопоставление 4 классических школ греч. философии и собственной цельной философии: «Когда я говорю о философии, я подразумеваю не стоическую, не платоническую, не эпикурейскую и не аристотелевскую, но все то, что хорошо сказано в каждой из этих школ, что научает праведности в соединении с благочестивым знанием, все это в целом достойное избрания (τοῦτο σύμπαν τὸ ἐκλεκτικόν) я называю философией» (Clem. Alex. Strom. I 7. 37. 6; в отношении корректного перевода ἐκλεκτικόν ср.: SVF. III 118). Т. о., обращаясь к философским источникам, К. А. считал своей основной задачей поиск в них того, что может рассматриваться как предварительное изображение и предвкушение полноты истинного знания, открытого в христианстве. Однако этот теоретически безупречный принцип при его практическом осуществлении нередко приводил у К. А. к некритическому принятию философских концепций, совместимость которых с христианством вызывает серьезные сомнения, и к дальнейшему использованию их в целях рациональной, или «гностической», интерпретации богооткровенного содержания христианства. Исходя из этого, корректный анализ философских источников К. А. требует совмещения 3 основных подходов: 1) внешнее выделение используемых К. А. античных и эллинистических философских сочинений и концепций; 2) определение функции того или иного философского учения в сочинениях К. А. и отделение цитат и аллюзий, имеющих исключительно иллюстративную функцию, от положений, к-рые К. А. принимает как выражение «единой философии», т. е. в качестве неоспоримых рациональных истин, являющихся элементами гносиса; 3) рассмотрение влияния принятых К. А. философских основоположений на предложенные им интерпретации ключевых тем христ. богословия.
Осмысляя статус исторически сложившейся греч. языческой философии в целом, К. А. совмещал отдельные элементы, заимствованные из предшествующей иудейской и христианской апологетической традиции, с собственными оригинальными подходами. Согласно К. А., в историческом аспекте античная философия несла для эллинов несомненную пользу и была дана им Самим Богом как некий завет, заключенный с ними (Clem. Alex. Strom. VI 7. 67. 1). До явления в мир христианства Бог познавался эллинами по-язычески, а иудеями - согласно Ветхому Закону; как ВЗ есть Божий дар иудеям, так и философия есть дар Бога эллинам (Ibid. VI 5. 41. 5-7; I 5. 28. 2-3). К. А. подчеркивал «педагогическое» значение философии, отмечая, что как исторически, так и сущностно «философия пролагает путь к тому, что должно быть доведено до совершенства Христом» (Ibid. I 5. 28. 3). Признавая, что наиболее упорные из эллинских философов приблизились к познанию Бога и смогли отчасти разглядеть истину (Ibid. I 19. 94. 7; Protrept. 6. 71. 1; 6. 72. 5; 6. 74. 7), К. А. вместе с тем утверждал, что языческая философия не содержит полноты истины, пригодна лишь для познания тварного мира (Strom. VI 7. 56. 1-2) и не дает человеку сил для того, чтобы вполне исполнить заповеди Господа (Ibid. I 16. 80. 6).
К. А. предлагал 3 версии, объясняющие происхождение греч. философии и наличие в ней истинного знания; эти версии были почерпнуты им из различных источников и не во всем согласуются друг с другом (Lilla. 1971. P. 12-13; ср.: Bauckham. 1985. P. 323-324). Первая версия, имеющая философско-богословский характер, связана со стоическим учением о наличии у всех людей общих природных представлений (φυσικὴ ἔννοια; κοινὸς νοῦς), лежащих в основании истинного знания (см.: Clem. Alex. Strom. I 19. 94. 2; V 13. 87. 2). Это учение К. А. соотносил с идеей природной причастности человека происходящему от Бога «дыханию жизни» (ср.: Быт 2. 7). Ум человека, согласно К. А., всегда сохраняет бытийную связь с Богом и имеет возможность достичь начального и смутного, но при этом истинного «познания божественного» (см.: Clem. Alex. Strom. V 13. 87-88). К. А. отмечал, что в нек-рых случаях эти природные способности человека получали непосредственную поддержку от Бога, уделявшего посредством просвещающего действия Логоса «капли», или «искры», мудрости избранным эллинским мудрецам (см., напр.: Protrept. 6. 68. 2; 7. 74. 7; Strom. V 5. 29. 4). В целом 1-я версия продолжает традицию Филона Александрийского и мч. Иустина Философа (см.: Lilla. 1971. P. 13-27; ср.: Bauckham. 1985. P. 323). Вторая версия связана с представлением о том, что эллинские философы заимствовали начала истинного учения у иудейских пророков, однако не смогли понять полноты истины, поэтому что-то из украденного извратили, а что-то домыслили, впав из-за этого в разнообразные заблуждения (см.: Clem. Alex. Strom. I 17. 87. 2). Гипотеза заимствования, или «воровства», подробно разрабатываемая К. А. в «Строматах» и подкрепляемая многочисленными примерами предполагаемых влияний (перечень и анализ мест см.: Lilla. 1971. P. 31-33; Ridings. 1995. P. 35-118), была впервые выдвинута в иудейской религиозно-философской апологетике II-I вв. до Р. Х., представители к-рой утверждали, что мн. философские истины были взяты греками из книг ВЗ, т. к. греческие мудрецы в действительности жили позже Моисея и обращались к книгам ВЗ в поисках истинного знания. Вероятнее всего, рассуждения и примеры К. А. в этой области были по большей части почерпнуты из несохранившихся сочинений иудейских авторов. К. А. и еп. Евсевий Кесарийский прямо ссылаются на евр. философа и экзегета Аристовула (см.: Clem. Alex. Strom. I 22. 150. 1-3; V 14. 97. 7; 99. 3; Euseb. Praep. evang. XIII 11. 3 - 12. 3), однако эту гипотезу излагали и др. иудейские писатели, в т. ч. Иосиф Флавий и Филон Александрийский (обзор истории гипотезы в дохрист. период см.: Pilhofer. 1990. S. 143-220). Основываясь на иудейской апологетике, мн. христ. апологеты и церковные писатели развивали и усиливали гипотезу «воровства», подкрепляли с ее помощью тезис о древнем происхождении библейского и христ. учения, а также обосновывали «право» христиан использовать все достижения греч. философии и как бы возвращать тем самым себе ранее украденное эллинами (относительно развития гипотезы у христ. авторов см.: Ibid. S. 221-292; Ridings. 1995). Согласно 3-й версии, философия была принесена в мир некими духами или ангелами. К. А. предлагает 2 различных варианта этой версии. В 1-й кн. «Стромат», приводя 1-й вариант, К. А. говорит о том, что «философия не была ниспослана Господом, но вошла по-воровски», т. к. «некая сила, а точнее ангел, постигнув отчасти истину, но не пребыв в ней, стал ее источником [для людей] и научил ей как вор» (Clem. Alex. Strom. I 17. 81. 4); в 5-й кн. этот же вариант представлен несколько иначе: «...некоторые из получивших высокое служение ангелов, погрузившись в удовольствия, поведали женщинам сокровенное» (Ibid. V 1. 10. 2). По мнению совр. исследователей, К. А. почерпнул этот вариант из традиции, восходящей к апокрифической Еноха первой книге (К. А. прямо ссылается на нее в соч. «Избранные места из пророческих писаний»; см.: Eclog. proph. 53. 4). Хотя о том, что падшие ангелы были зачинателями неких земных практических наук (τέχνη), упоминают мн. иудейские и христ. писатели, прямое утверждение о том, что появление философии есть следствие деятельности этих ангелов, нехарактерно для раннехрист. авторов и прослеживается, кроме К. А., лишь у греч. апологета Ермия Философа (подробнее см.: Bauckham. 1985; ср.: Lilla. 1971. P. 29). В 7-й кн. «Стромат» К. А. представил 2-й вариант, утверждая, что «Бог даровал эллинам философию при посредстве низших ангелов (διὰ τῶν ὑποδεεστέρων ἀγγέλων), ибо древнейшим и божественным повелением ангелы были распределены в соответствии с распределением народов» (Clem. Alex. Strom. VII 2. 6. 4); т. о. речь идет уже не о «воровстве» падших ангелов, но об ангелах, надзирающих за народами по замыслу Божию. Возможно, хронологически более поздний 2-й вариант, представленный в 7-й кн., свидетельствует о неудовлетворенности К. А. весьма сомнительным по богословскому содержанию 1-м вариантом и о желании предложить собственное переосмысление традиции. При этом в обоих вариантах 3-й версии К. А. подчеркивает определяющую роль Божия Промысла в появлении философии в мире (ср.: Ibid. I 17. 81. 5). Использование К. А. 3 несводимых друг к другу версий возникновения истинного философского знания во многом объясняется его желанием учесть все варианты решения этой проблемы, известные в предшествующей традиции; при этом противоречия между ними всегда могут быть сняты с помощью указания на то, что разное философское содержание исторически появлялось различным образом. В рамках каждой из 3 версий К. А. стремился доказать, что все истинное содержание исторически сложившихся философских учений тем или иным образом восходит к действию Божественного Промысла, использующего различные средства для достижения единой цели: подготовки разума людей к принятию полноты спасительной истины.
Как формально-статистический, так и содержательный анализ используемых К. А. текстов и концепций представителей античной и эллинистической философии свидетельствует о том, что философским направлением, оказавшим наиболее сильное влияние на К. А., является платонизм. Однако мнение С. Лиллы и повторяющего его выводы Морескини (см.: Lilla. 1971. P. 41-42; Морескини. 2011. С. 128-129) о том, что К. А. «примыкает к среднему платонизму в оценке различных течений греческой философии», не вполне корректно, поскольку основывается на стремлении целиком редуцировать философское содержание учения К. А. к платонической традиции (ср.: Hoek. 1988. P. 16-19; Runia. 1993. P. 153). В действительности универсальным критерием, позволяющим К. А. выносить суждение о философских направлениях, является не платонизм, а христ. учение, т. е. содержание Свящ. Писания и церковного Предания, подвергаемое рациональному осмыслению и соотносимое с содержанием греч. философии. Именно в результате такого соотнесения К. А. пришел к заключению, что платонизм является наиболее близкой к христианству философией и содержит наибольшее число истинных положений. Процесс «проверки» философских школ на соответствие христианству у К. А. не представлен последовательно, и соответствующие сопоставления рассеяны по всем его сочинениям; при этом по руководящим принципам и по результатам он во многом сходен с процессом, последовательно описанным блж. Августином в соч. «О граде Божием» (см.: Aug. De civ. Dei. VIII 1-10). Т. о., влияние платонизма на К. А. является вторичным и определяется первичным влиянием его христ. мировоззрения на сам факт предпочтения им платонизма, обусловленный объективной содержательной близостью платонической и иудео-христ. онтологических систем. Предлагаемое нек-рыми совр. исследователями отнесение К. А. (наряду с др. церковными писателями, в число которых обычно включаются мч. Иустин Философ, Татиан, Ориген) к представителям христ. линии среднего платонизма справедливо в том отношении, что средние платоники и христ. авторы нередко делали акцент на одних и тех же частях платоновского учения (обоснование этого см., напр.: Lilla. 1971; Даниелу. 2003; Hägg. 2006). В области философской теологии и религ. онтологии К. А. действительно часто следовал платонической традиции, однако присутствующая в работах Лиллы, Морескини и ряда др. исследователей абсолютизация платонизма К. А. (см., напр.: Lilla. 1971. P. 51-59) является следствием одностороннего подхода к интерпретации его учения. К. А. не являлся «платоником» в классическом школьном смысле этого наименования, т. к. высшим авторитетом для него оставалось учение Свящ. Писания, а не взгляды и высказывания Платона. Философский язык и понятийная система платонизма у К. А. служат задаче рационального осмысления содержания христ. откровения, однако не подменяет собой это откровение, поскольку язык интерпретации всегда относится к неизменному и абсолютному интерпретируемому религ. содержанию как нечто вторичное и условное. К. А. никогда не говорил о себе как об ученике Платона или о последователе некой греч. философской школы и неизменно подчеркивал, что он следует лишь «совершенной и истинной варварской философии» (ἡ βάρβαρος φιλοσοφία, ἣν μεθέπομεν ἡμεῖς, τελεία τῷ ὄντι κα ἀληθής - Clem. Alex. Strom. II 2. 5. 1), т. е. учению ВЗ и НЗ. Т. о., даже по отношению к имеющим философский характер заимствованиям К. А. из платонической традиции «правильнее говорить о библейской экзегезе, использующей реформированную платоновскую терминологию, а не о платонизме или христианском среднем платонизме» (Даниелу. 2003. С. 152-153).
Опираясь на убежденность в близости платонизма к христианству, К. А. широко использовал идеи платоновской философии в собственных произведениях. Платон является наиболее часто цитируемым К. А. из нехрист. авторов; тексты К. А. наполнены парафразами из платоновских сочинений и аллюзиями к ним (анализ заимствований и влияний см.: Butterworth. 1916; Casey. 1925; Meifort. 1928; Outler. 1940; Wytzes. 1957; Idem. 1960; Wyrwa. 1983; Riedweg. 1987; Даниелу. 2003; Itter. 2009). Представленный в указателе к изданию Штелина (см.: Clem. Alex. Werke. 19802. Bd. 4. Tl. 1. S. 50-53; дополнения: Ibid. S. XXI-XXII) перечень цитат и параллелей свидетельствует, что наиболее часто К. А. обращался к текстам диалогов «Теэтет» (см., напр.: Clem. Alex. Strom. I 10. 48. 3; V 14. 95. 1; 98. 5-8), «Государство» (см., напр: Ibid. I 19. 93. 3), «Законы» (см., напр.: Ibid. II 4. 18. 1; 5. 22. 7), «Федон» (см., напр.: Ibid. I 15. 66. 3; 19. 92. 3-4; III 3. 17. 3-5), «Федр» (см., напр.: Ibid. V 14. 138. 3), «Тимей» (см., напр.: Ibid. V 12. 78. 1; 79. 4; 96. 2); реже встречаются отсылки к диалогам «Политик» (см., напр.: II 4. 18. 2; III 3 19. 4), «Софист» (см., напр.: Ibid. II 4. 15. 1-2; IV 25. 155. 3) и др., а также к «Письмам» Платона (см., напр.: Ibid. V 10. 65. 1-3; 11. 77. 1). Диалоги «Алкивиад II», «Хармид», «Критий», «Эриксий», «Евтидем», «Лахет», «Лисий», «Парменид», «Филеб», «Протагор» К. А. не цитировал, однако исследователи указывают на парафразы и аллюзии, позволяющие с уверенностью утверждать, что К. А. был с ними знаком. Из признаваемых подлинными диалогов Платона в сочинениях К. А. остался никак не отраженным лишь диалог «Евтифрон» (ср.: Outler. 1940. P. 222-224). В большинстве случаев, приводя высказывания Платона, К. А. подчеркивал их согласие с христ. учением, а также собственное одобрительное отношение к взглядам Платона и к нему лично, нередко выражаемое хвалебными эпитетами (см., напр.: Clem. Alex. Paed. II 3. 36. 3; III 11. 54. 2; Strom. I 8. 42. 1). Вместе с тем нельзя утверждать, что К. А. принимал все учение Платона безоговорочно; так, он отвергал платоновское учение о познании как припоминании (ἀνάμνησις) и связанную с ним концепцию предсуществования душ, впосл. занявшую важное место в богословской системе Оригена. Хотя нек-рые совр. исследователи пытались найти у К. А. теорию «припоминания», опираясь на характеристику «Стромат» как «памятных записок» (см.: Itter. 2009. P. 113-139), в действительности К. А. объяснял процесс познания исключительно в аристотелевско-стоических понятиях и не употреблял слово ἀνάμνησις в специальном платоновском философском смысле (ср. указатель к изданию Штелина: Clem. Alex. Werke. 1936. Bd. 4. Tl. 2. S. 236-237).
Близость К. А. к средним платоникам подтверждается использованием одинаковых цитат из диалогов Платона для иллюстрации сходных по доктринальному содержанию положений; так, и средние платоники, и К. А. цитировали Платона в контексте учения о непознаваемости Божества (Plat. Tim. 28c; Idem. Ep. 7. 341c), учения о Боге-Творце (Idem. Tim. 28с), учения о высшей власти Бога (Idem. Ep. 2. 312e), учения о творении (Idem. Tim. 51a), учения о необходимости стремления к уподоблению Богу (Idem. Thaet. 176a-b), и т. п. Многочисленные параллели между философскими и теологическими идеями К. А. и средних платоников были установлены и подробно рассмотрены Лиллой (Lilla. 1971). Однако точно определить, с какими философскими сочинениями средних платоников был знаком К. А., невозможно; это объясняется как отсутствием у К. А. прямых цитат из сочинений средних платоников с упоминанием авторства, так и тем, что в большинстве своем эти сочинения не сохранились, поэтому установление параллелей часто имеет гипотетический и приблизительный характер. Т. о., с уверенностью говорить о прямой зависимости К. А. от среднего платонизма можно лишь в немногочисленных случаях наличия прямых текстуальных и смысловых параллелей.
К. А. был знаком с близкой к классическому платонизму и нередко смешивавшейся с ним традицией пифагореизма, пифагореизирующего платонизма и неопифагореизма. Он приводил свидетельство о том, что Пифагор был учителем Платона (Clem. Alex. Strom. V 5. 29. 3), цитировал Пифагора (см., напр.: Ibid. V 5. 30. 1) и Филолая (Ibid. III 3. 17. 1), дважды назвал пифагорейцем Филона Александрийского (Ibid. I 15. 72. 4; II 19. 100. 3; объяснение возможных причин см.: Runia. 1995). Нек-рые неопифагорейские мотивы у К. А. проявляются в области философского рассуждения о Боге как о Едином и о Монаде (см.: Clem. Alex. Strom. V 11. 71. 2; подробнее см.: Whittaker. 1969; Choufrine. 2002. P. 159-197). Неоднократное обращение К. А. к анализу числового символизма также содержит пифагорейские коннотации, которые он намеренно подчеркивал (см., напр.: Clem. Alex. Strom. V 14. 93. 4-5; VI 16 139. 2-3; 140. 1-2; ср.: Delatte. 1915).
К. А. хорошо знал стоическую философию; непосредственное чтение им трудов классиков стоицизма Клеанфа и Хрисиппа вероятно, но недоказуемо; знакомство К. А. с сочинениями близких к нему по времени стоиков Эпиктета и Музония Руфа не подлежит сомнению и подтверждается текстуально. Возможно, с идеями стоицизма К. А. познакомился через Пантена, к-рый в нек-рых источниках именуется «стоическим философом». В отличие от часто цитируемых сочинений Платона на сочинения стоиков К. А. обычно прямо ссылался лишь в случае несогласия с их воззрениями, тогда как положительные заимствования стоических понятий и концепций у К. А. нередко вообще никак не оговариваются. Отчасти это объясняется тем, что К. А. воспринимал мн. положения стоического учения как прикладной философский инструментарий (общий обзор влияния идей стоицизма на К. А. см.: Bradley. 1974). К стоической философии восходят нек-рые элементы учения К. А. о Логосе, в особенности описание соотношения Логоса и сил Бога (см., напр.: Clem. Alex. Strom. IV 15. 156-157). В предложенном К. А. объяснении взаимосвязи понятий «дух» (πνεῦμα) и «разум» (λόγος), которые соотносятся и нередко отождествляются им как на философском, так и на религ. уровне (см., напр.: Paed. I 6. 43. 3), исследователи также отмечают влияние стоического учения, возможно, усвоенного К. А. при посредстве Филона Александрийского или средних платоников. Наиболее сильным влияние стоицизма на К. А. было в области этического и морально-практического учения (обзор см.: Merk. 1879. S. 53-59; Stelzenberger. 1933. S. 166-170, 226-231, 323-327, 419-421; ср. также: Мартынов. 1889-1890). К. А. использовал значительное число понятий, восходящих к стоической этике, в т. ч. «обязанность» (καθῆκον; др. распространенный вариант перевода - «надлежащее»; см.: Clem. Alex. Paed. I 13. 102-103; Strom. VI 14. 111. 3; VII 8. 51. 5-6; ср.: SVF. III 491-523), «бесстрастие» (ἀπάθεια; Clem. Alex. Strom. IV 7. 55. 3; VI 9. 71-74; ср.: SVF. I 207, 215, 447; анализ использования понятия К. А. см.: Pire. 1938; Rüther. 1949; Bradley. 1974. P. 55-59; Spanneut. 2002. P. 197-201; 247-260), «осмотрительность» (ἐυλάβεια; см.: Clem. Alex. Strom. II 7. 32. 4; 33. 2; VI 9. 74. 2; ср.: SVF. III 431, 438), «внимательность» (προσοχή; см.: Clem. Alex. Strom. II 20. 120. 1; VI 9. 78. 4; ср.: Epict. Diss. IV 12), «пристрастие» (προσπάθεια; см.: Clem. Alex. Strom. I 1. 9. 2; IV 20. 139. 5; VII 12. 79. 6; термин введен Эпиктетом; см., напр.: Epict. Diss. III 24. 1; IV 1. 77, 100, 130; ср.: Pohlenz. 1943. S. 133-134). В теории познания К. А. также присутствует стоическая терминология (часть из которой в его время уже стала общефилософской) и могут быть выявлены нек-рые стоические идеи, в значительной мере, однако, заимствованные К. А. из сочинений Филона Александрийского (см.: Spanneut. 1957. Р. 222-230). В контексте учения о вере К. А. использовал стоическое понятие «согласие» (συγκατάθεσις - Clem. Alex. Strom. II 12. 54. 5 - 12. 55. 1; ср.: Ibid. II 2. 8. 4; 6. 27. 2 - 6. 28. 1; V 13. 86. 1; ср.: SVF. III 548; подробнее см.: Lilla. 1971. P. 127-130); предлагаемая им интерпретация этого понятия свидетельствует о наличии прямого стоического влияния. Критические упоминания К. А. о стоицизме связаны со стоическим учением о материальности Бога и с пантеистическим «обожествлением» материи. Так, К. А. замечает, что стоики «позорят философию» мнением, что «Бог есть тело (σῶμα) и пронизывает (πεφοιτηκέναι) даже самое презренное вещество» (Clem. Alex. Protrept. 5. 66. 3; Strom. I 11. 51. 1; см. также: Strom. V 14. 89. 2-4; ср.: SVF. II 1028-1048; Bradley. 1974. P. 43-45). Однако при этом К. А. неоднократно с одобрением приводил «исправленную» версию этого же стоического учения, в соответствии с к-рой все творение «пронизано» не трансцендентным Богом, а Софией, пневмой (= творческим огнем), силами и действиями Бога (см.: Clem. Alex. Strom. V 14. 89. 4; 100. 4). Т. о., пантеистическое стоическое учение К. А. интерпретировал в христ. смысле, подчеркивая, что «наиболее общие из действий Бога в равной мере пронизывают (διαπεφοίτηκεν) все [творение]» (Ibid. 133. 9; ср.: Markschies. 2000. S. 87. Not. 86; ср. также пример еще одного «исправления»: Clem. Alex. Strom. II 19. 101. 1).
Прямое знакомство К. А. с сочинениями Аристотеля маловероятно; у К. А. встречаются упоминания имени Аристотеля, но нет ни одной прямой цитаты из его подлинных произведений. Параллели с аристотелевской философией, выявляемые исследователями во взглядах К. А., либо отражают те элементы аристотелизма, к-рые стали ко II в. частью общего философского контекста, либо являются заимствованиями у авторов, испытавших определенное влияние аристотелизма, но не принадлежавших к перипатетикам в строгом школьном смысле, т. е. у Филона Александрийского, Галена, средних платоников (анализ возможного влияния идей Аристотеля на К. А. см.: Clark. 1977; ср. также: Searby. 1999). Содержание положений, которые К. А. приписывает Аристотелю в соч. «Увещевание к язычникам» (см.: Clem. Alex. Protrept. 5. 66. 4), по мнению А. Боса, свидетельствует о том, что К. А. был знаком с трактатом «О мире» (De mundo), автором которого в эллинистическую эпоху считался Аристотель (Bos. 1993). К этому сочинению может восходить также различение трансцендентной миру «сущности» (οὐσία) Бога и действующей в мире «Силы» (δύναμις) Бога, отождествляемой К. А. с Логосом (см.: Clem. Alex. Strom. II 2. 5. 4; VI 18. 166. 1-2; ср.: Arist. De mundo. 6. 397b - 398a). Внимание К. А. к аристотелизму видно также из содержания представленных в 8-й кн. «Стромат» философских выписок и материалов, в к-рых рассматриваются мн. характерные для аристотелевской логики термины и понятия. Отдельные параллели с аристотелевской теорией познания и логикой встречаются и в основных книгах «Стромат» (см.: Searby. 1999), однако имеют случайный характер и не определяют учения К. А. В сфере этики К. А. использовал аристотелевское представление о добродетели как середине между крайностями (см.: Clem. Alex. Paed. III 10. 51. 3; II 1. 16. 4; ср.: Arist. EN. II 5. 1106b8-1007a8), вероятно, взятое им из сочинений Филона Александрийского или средних платоников (Lilla. 1971. P. 64-65; Clark. 1977. Р. 29-30).
К. А. отвергал учение представителей эпикурейства, однако едва ли был хорошо с ним знаком. В критике взглядов Эпикура он не выходил за пределы распространенных оценок эпикурейства как атеистической и гедонистической философии (Clem. Alex. Strom. I 1 1. 2; II 4. 16. 3, II 20. 119. 3; Protrept. 5. 66. 5). Однако К. А. мог цитировать эпикурейских философов и с одобрением (Jungkuntz. 1962. P. 282-283); напр., он приводит обширную цитату из письма Эпикура о пользе занятий философией (Clem. Alex. Strom. IV 8. 69. 2-4); утверждает, что эпикуреец Метродор из Лампсака (IV-III вв. до Р. Х.) «по божественному вдохновению» (ἐνθέως) произнес слова о необходимости возвышать душу от временного к вечному (Ibid. V 14. 138. 2; cр. также: Ibid. 90. 2; VI 2. 24. 7-10). В учении о познании К. А. использовал восходящий к Эпикуру термин «предвосхищение» (πρόληψις; др. вариант перевода: «первичное общее представление»; см.: Ibid. II 4. 16-17 = Epic. Fragm. 255; ср.: Jungkuntz. 1962. P. 280; Lamont. 2009. P. 103), однако это едва ли свидетельствует о том, что он был знаком с сочинениями Эпикура или кого-то из его последователей. Термин πρόληψις ко II в. был реципирован стоиками и платониками, поэтому, вероятно, сведения о его введении Эпикуром и эпикурейской интерпретации были почерпнуты К. А. из стоической философской лит-ры (см., напр.: SVF. II 105, 841, 984; ср.: Lilla. 1971. P. 129-131; о др. возможных случаях косвенного влияния эпикурейства на К. А. см.: Dessì. 1982).
О том, что К. А., подобно средним платоникам, считал несостоятельной позицию представителей античного скептицизма, к-рый во II в. оставался достаточно влиятельным, свидетельствуют материалы 8-й кн. «Стромат», где осуждаются «новые философы», отвергающие способность человека достичь познания истины; они, согласно К. А., «руководствуясь пустой и бесцельной жаждой славы, опровергая друг друга и соревнуясь друг с другом, предаются бесполезному пустословию» (Clem. Alex. Strom. VIII 1). В этих же материалах сохранился критический разбор скептической позиции Пиррона (см.: Ibid. VIII 5. 15. 2 - 16. 3); даже если он не принадлежит К. А. и был извлечен им из сочинения некоего современника, сам факт такого извлечения свидетельствует о негативном отношении К. А. к учению скептиков.
К. А. приводит значительное число мнений философов, принадлежавших к греч. философским школам древности, которые в его время уже прекратили существование, в т. ч. досократиков и академиков (см. в ст. Академия Платоновская). В подавляющем большинстве случаев цитаты такого рода имеют иллюстративный характер и, вероятно, были взяты К. А. не из первоисточников, а из антологий и популярных историко-философских обзоров.
Филон Александрийский
Среди используемых К. А. источников сочинения Филона Александрийского занимают особое место: К. А. ссылается на него лишь 4 раза, причем исключительно в «Строматах» (см.: Clem. Alex. Strom. I 5. 31. 1; 15. 72. 4; 23. 153. 2; II 19. 100. 3); при этом многочисленные прямые неоговариваемые цитаты, а также текстовые и идейные заимствования из его сочинений присутствуют во всех основных произведениях К. А. Хотя исследователи предполагали, что некоторые христ. писатели I-II вв. могли знать отдельные трактаты Филона (см.: Runia. 1993. P. 87-131), первым христ. автором, прямо упоминающим и цитирующим Филона, является К. А. (Ibid. P. 132). Во многом благодаря широкой рецепции наследия Филона, осуществленной К. А., экзегетические и философско-богословские идеи Филона, не имевшие большой популярности в иудейской среде и ко II в. фактически оказавшиеся забытыми, стали известны христ. писателям последующих веков и оказались введены в контекст христ. богословия.
Подробный анализ всех заимствований из сочинений Филона, присутствующих в «Строматах» (всего ок. 200 цитат и параллелей), был осуществлен Хук (Hoek. 1988). Обобщающее исследование заимствований в «Увещевании к язычникам» и в «Педагоге» отсутствует, однако отдельные случаи были предметом рассмотрения в неск. статьях (см.: Winden. 1978; Dinan. 2007; Idem. 2010). Мн. неучтенные др. исследователями заимствования и смысловые параллели были выявлены Лиллой (см. указатель: Lilla. 1971. P. 258-261; ср. также указатель к изданию Штелина: Clem. Alex. Werke. 19802. Bd. 4. S. 47-49; дополнения: Ibid. S. XXX-XXXI). Из сочинений Филона К. А. упоминает лишь трактат «О жизни Моисея» (De vita Mosis; см.: Clem. Alex. Strom. I 23. 153. 2), однако анализ заимствований свидетельствует, что он был знаком со всеми известными ныне трактатами филоновского корпуса, хотя и использовал их не в равной мере. В результате проведенного Хок исследования были выявлены 4 крупных «блока» (blocks), т. е. самостоятельных смысловых отрывка «Стромат», в к-рых текст К. А. в значительной мере является пересказом и переработкой текстов Филона (обзор см.: Runia. 1993. P. 139-140): 1) отрывок, в к-ром библейские образы Агари и Сарры аллегорически толкуются как указание на отношение между мирской философией и духовной мудростью (Clem. Alex. Strom. I 5. 28-32); К. А. использует трактат Филона «О собрании для обучения» (De congressu eruditionis causa) и отрывки из др. трактатов (см.: Philo. De cong. erud. 35-37, 77-80, 124-125, 153-154, 158, 177; Idem. De agr. 15-16; Idem. De Abr. 52); присутствует прямая ссылка на Филона (анализ см.: Hoek. 1988. P. 23-47); 2) повествование о жизни Моисея (Clem. Alex. Strom. I 23. 151 - 29. 182); в 1-й ч. отрывка К. А. с сокращениями цитирует повествование Филона о раннем периоде жизни Моисея (Philo. De vita Mos. I 1, 5-17, 23, 25, 32, 142-146), во 2-й ч. содержатся многочисленные аллюзии к Филону и заметно влияние его текста, хотя прямые заимствования почти отсутствуют; прямая ссылка на Филона дается внутри 1-й ч. (анализ см.: Hoek. 1988. P. 48-68); 3) рассуждение о законе Моисея как об источнике истинного учения о добродетелях (Clem. Alex. Strom. II 18. 78 - 19. 100); К. А. опирается на трактат Филона «О добродетелях» (De virtutibus); последовательно продвигаясь по тексту Филона, К. А. разбивает его на краткие положения, часть из к-рых цитирует дословно, а часть пересказывает, нередко добавляя библейские или христ. акценты, а также значительно усиливая аллегорическую составляющую толкований заповедей (ср.: Philo. De virt. 8-9, 18-20, 28-31, 34-35, 88-100, 109-150, 156-172, 183-185, 201-219); имя Филона упоминается в конце блока (анализ см.: Hoek. 1988. P. 69-115); 4) аллегорическое толкование Иерусалимского храма, священных предметов и одежд (Clem. Alex. Strom. V 6. 32-40); К. А. использует аллегорическое толкование Филона, предложенное в соч. «О жизни Моисея» в контексте представления Моисея как первосвященника (см.: Philo. De vita Mos. II 87-88, 101-104, 122-124); идеи Филона К. А. смешивает с заимствованиями из др. источников и с собственными объяснениями христологического характера; ссылка на Филона отсутствует (анализ см.: Hoek. 1988. P. 116-147). Кроме того, Хук указала на 4 «кратких серии» (short sequences), т. е. небольших параллельных отрывка, в к-рых К. А. предлагает переработку и пересказ текста Филона для раскрытия собственных тем (анализ см.: Ibid. P. 148-176; ср.: Runia. 1993. P. 140-141): 1) учение о непознаваемости сущности Бога и познаваемости Силы Бога (Clem. Alex. Strom. II 2. 5-6; ср.: Philo. De poster. Cain. 5-18); 2) описание «истинного философа» с помощью аллегорического толкования отдельных мест ВЗ (Clem. Alex. Strom. II 10. 46 - 11. 52; ср.: Philo. De cong. erud. 83-106; Idem. De poster. Cain. 23-29); 3) тезис о необходимости освобождения от телесных страстей и недопустимости букв. понимания антропоморфных высказываний о Боге (Clem. Alex. V 11. 67-68; Philo. De sacr. 95-100); 4) рассуждение о «месте» Бога и богопознании (Clem. Alex. Strom. V 71. 5 - 74. 1; ср.: Philo. De poster. Cain. 14-20; Idem. Somn. I 64-66). Все остальные заимствования и параллели имеют обособленный характер; их тематический анализ свидетельствует, что К. А. опирался на идеи Филона в различных областях: при аллегорическом объяснении библейских имен и событий (см., напр.: Clem. Alex. Strom. II 5. 20. 2; 15. 70. 3; III 7. 57. 3; V 1. 8. 5-7; 8. 52. 5; 12. 80. 3; VI 15. 132. 3); при раскрытии темы пути человека к совершенству, к-рое понимается как уподобление Богу (см., напр.: Ibid. II 19. 100. 3-4; V 14. 94. 6 - 95. 1); при представлении учения об этических нормах и предписаниях (см., напр.: Ibid. II 20. 105. 1); при изложении различных богословских и философских концепций общего характера, в особенности платонических (см., напр.: Ibid. II 6. 27. 2; 9. 41. 1-2; 20. 110. 4 -111. 4; IV 25. 155. 2; 26. 163. 1; V 12. 78. 2-3; VI 3. 34. 1-3; 16. 138. 2), и в ряде др. случаев (анализ см.: Hoek. 1988. P. 177-208; ср.: Runia. 1993. P. 141-150). Наиболее сложными для выявления оказываются случаи идейного заимствования, не отражающиеся в явных текстовых совпадениях. Характерным примером может служить использование К. А. почерпнутого у Филона противопоставления «умеренности в страстях» (μετριοπάθεια), к-рая свойственна людям, лишь движущимся к совершенству, и полного «бесстрастия» (ἀπάθεια), которое приобретает совершенный христианин (cм.: Clem. Alex. Strom. II 8 39. 4; VI 9. 74. 1; ср.: Philo. Leg. all. III 129, 132). Хотя зависимость К. А. от Филона в данном случае очевидна и дополнительно подтверждается употреблением характерного филоновского термина μετριοπάθεια, ни в издании Штелина, ни у Хук данная параллель не указана; ее отмечает лишь Лилла (Lilla. 1971. P. 99, 103-105). Т. о., в отличие от вопроса о прямых текстовых заимствованиях, к-рый к наст. времени в значительной мере прояснен, проблема смысловых параллелей между сочинениями К. А. и Филона остается в совр. науке разработанной лишь фрагментарно (анализ отдельных параллелей см.: Heinisch. 1908; Riedweg. 1987; Runia. 2004; Idem. 2010; Otto. 2013).
Вопрос о степени идейной зависимости К. А. от Филона и о глубине влияния учения Филона на воззрения К. А. получал в исследовательской лит-ре противоречивые решения; в целом они сводятся к 2 подходам, к-рые были обозначены Руниа как «максимизирующий» и «минимизирующий» (см.: Runia. 1993. P. 150-155). Сторонники 1-го подхода (см., напр.: Wolfson. 1956; Lilla. 1971; Mortley. 1973) полагают, что знакомство с сочинениями Филона наложило отпечаток на все мировоззрение К. А., неизменно интерпретировавшего в свете идей Филона как философские сочинения Платона, так и Свящ. Писание; система Филона объявляется основным источником философских идей для К. А., а также образцом, определившим способы соединения этих идей с текстами Свящ. Писания. Сторонники 2-го подхода (см., напр.: Völker. 1952. P. 614-623; Osborn. 1987), напротив, указывают на то, что, изучая сочинения Филона, К. А. относился к ним критически; он перерабатывал и христианизировал взятые у Филона положения, а не просто повторял их; близость к Филону, очевидная на формально-текстовом уровне, нередко оборачивается на смысловом уровне наделением заимствованного содержания новым христ. значением, вслед. чего «влияние Филона на Климента вторично по отношению к использованию Филона Климентом» (Osborn. 1998. P. 109). Пути преодоления крайностей, свойственных обоим подходам, были намечены в работах Мондезера (Mondésert. 1944. P. 163-183), Даниелу (Daniélou. 1961. P. 217-233) и Руниа (Runia. 1993. P. 155-156). Как справедливо отмечает Руниа, К. А. узнал сочинения Филона Александрийского лишь после приезда в Александрию, т. к. они не были известны в др. частях греко-римского мира. При этом К. А. свидетельствует, что его обращение в христианство состоялось задолго до этого (ср.: Clem. Alex. Strom. I 1. 11. 1-2); философское образование К. А. также получил до прибытия в Александрию; причем, вероятнее всего, он учился как у платоников, так и у стоиков. Т. о., знакомство с идеями Филона Александрийского не могло оказать формирующего влияния ни на религиозные, ни на философские убеждения К. А. При знакомстве с сочинениями Филона Александрийского К. А., уже ставший самостоятельным мыслителем, видел в них прежде всего пример удачного синтеза философии и религии; т. о., он учился у Филона не религии и не философии, а тому, как «соединять платонизм с библейским мышлением» (Runia. 1993. P. 155). Наиболее важное и наиболее сильное влияние Филона на К. А. относится к области методологии библейской экзегезы; именно в сочинениях Филона К. А. обнаружил образцы использования платонического философского языка для выявления и передачи «духовного» смысла Свящ. Писания. При этом, заимствуя у Филона аллегорический метод, К. А. стремился отделить этот метод от конкретных форм его реализации; о нежелании К. А. слепо следовать Филону и постоянном стремлении христианизировать аллегоризм Филона свидетельствует как свойственная К. А. практика переработки, а не простого цитирования библейских толкований Филона, так и добавление к аллегорическим толкованиям Филона типологических толкований, связывающих ВЗ с НЗ и помещающих тексты Свящ. Писания в контекст христианского представления об истории спасения (ср.: Daniélou. 1961. P. 233). Вместе с тем для отношения К. А. к Филону характерна двойственность, определившая основные проблемы, связанные с рецепцией К. А. филоновских идей. С одной стороны, К. А. воспринимал Филона как философа-платоника (вероятнее всего, именно на отнесение к мистической линии платонической традиции указывает характеристика «пифагореец», дважды употребляемая К. А. по отношению к Филону), учение к-рого находится вне полноты христ. истины; оно, как и учение проч. греч. философов, должно подвергаться критической проверке на соответствие вероучению христианства. Однако, с др. стороны, К. А. ставил Филона как библейского экзегета в линию истинной «варварской философии», т. е. рационального осмысления богооткровенного содержания Свящ. Писания; вслед. этого К. А. воспринимал мн. платонические идеи Филона не как наследие традиции греч. языческой философии, но как выражение «библейской мудрости», как образец «духовного» прочтения Свящ. Писания. В силу этой двойственности не во всех случаях общая тенденция К. А. к христианизации Филона была реализована им последовательно и удачно. Во многом именно содержательной зависимостью от платонизма Филона объясняется наличие в сочинениях К. А. философско-богословских положений, к-рые достаточно хорошо согласуются с жестким монотеизмом ветхозаветного иудаизма, однако проблематичны для классической христ. теологии и триадологии. Большинство этих положений относятся к учению о Боге, о внутрибожественной жизни и об отношении Бога к творению; в частности, К. А. следовал Филону в нек-рых положениях учения о трансцендентности Единого Бога, Который присутствует в мире Своей Силой; в принятии платонического учения о Логосе как Уме Бога, Который содержит идеи всего творения; в представлении о том, что Логос является «инструментом» Бога при творении и сохранении мира, и т. д. (ср.: Морескини. 2011. С. 147-149). Хотя с т. зр. совр. ему христ. вероучения К. А. не переходит границу, отделяющую христианство от еретических движений, с т. зр. сложившейся в эпоху Вселенских Соборов христ. триадологии нек-рые предложенные им под влиянием Филона философские интерпретации учения о Боге оказываются неточными и заключающими в себе возможность еретического истолкования в духе субординационизма и арианства.
Гностицизм
О знакомстве К. А. как с сочинениями гностиков, так и с устным преданием гностицизма свидетельствуют неоднократно приводимые им в сочинениях высказывания представителей различных гностических направлений и групп (общий обзор состояния александрийского гностицизма во время К. А. см.: Markschies. 2007). В отличие от сщмч. Иринея Лионского К. А. не предлагал исторической или тематической систематизации гностических учений, однако гностики являются единственными оппонентами, с к-рыми он вступает в подробную полемику по разным темам в «Педагоге» и в «Строматах». Важным свидетельством внимания К. А. к идеям гностицизма являются «Извлечения из сочинений Феодота...»; здесь основные еретические мнения гностиков сопровождаются краткими комментариями, предположительно принадлежащими К. А., в которых предлагается своего рода «коррекция» гностицизма, нередко представляющая собой попытку пересказа истин христианства на языке гностиков-валентиниан. Рассуждая о содержании «Стромат», К. А. неск. раз свидетельствует о желании опровергнуть еретические лжеучения (см., напр.: Clem. Alex. Strom. IV 1. 2. 2-3; VI 15. 89. 1-2), подразумевая под ними мнения различных гностических учителей. Фактически понятия «еретик» и «ложный гностик» для К. А. являются синонимичными; еретиками для него оказываются все действующие внутри христианства и от имени христианства учителя, к-рые не следуют Свящ. Писанию и церковному Преданию, а предлагают вместо этого своим ученикам разработанные ими самими системы «гносиса» (см.: Ibid. VII 16-17; подробнее о понятии «ересь» у К. А. см.: Le Boulluec. 1985. T. 2. P. 263-438).
Среди гностических групп, являвшихся объектами полемики К. А., выделяются 4 основные. В 1-ю группу входят рим. гностик александрийского происхождения Валентин и его последователи валентиниане, в т. ч. Феодот и Ираклеон. К. А. неоднократно излагал и критиковал воззрения валентиниан в «Педагоге», «Строматах», «Извлечениях из сочинений Феодота...», «Избранных местах из пророческих писаний» (см.: Clem. Alex. Paed. I 6; Strom. II 8. 36. 2-4; 20. 114. 3-6; III 7. 59. 3-4; IV 13. 89. 2-3; VI 6. 52. 3 - 53. 1; Exc. Theod. passim; Eclog. proph. 25). К. А. знал мн. сочинения валентиниан: он цитирует толкования Ираклеона на Евангелие (Strom. IV 9. 71-73; Eclog. proph. 25) и сочинение «О друзьях» Валентина (Strom. VI 6. 52. 3); в «Извлечениях из сочинений Феодота...» используется некое сочинение валентиниан, к-рое также было известно сщмч. Иринею Лионскому; упоминаются письма Валентина (Strom. II 20. 114. 3; III 7. 59. 3). В полемике с валентинианами К. А. затрагивал мн. богословские темы, в т. ч. учение о Боге, о Логосе, о Боговоплощении и спасении, о таинстве Крещения; при этом по некоторым вопросам взгляды К. А. оказываются близки к мнениям валентиниан. Членами 2-й группы являются александрийский гностик Василид и его последователи, в т. ч. его сын Исидор. К. А. часто приводил и рассматривал их мнения в «Строматах» (см.: Strom. I 21. 146. 1-2; II 3. 10. 1, 3; 6. 27. 2; 8. 36. 1; 20. 112. 1 - 114. 2; IV 12. 81. 1 - 88. 5; 26. 165. 3; V 1. 3. 2-4; VI 6. 53. 2-5; VII 17. 106. 4; подробный анализ свидетельств и цитат К. А., относящихся к школе Василида см.: Löhr. 1996), вероятно, он общался с ними лично в Александрии; упоминаются также сочинения Василида (Clem. Alex. Strom. IV 12. 81. 1) и Исидора (Ibid. II 20. 113. 3; VI 6. 53. 2). Как и в случае валентиниан, в полемике с последователями Василида К. А. касался различных богословских тем, однако преимущественно критиковал их учение о природе гностического совершенства и средствах его достижения. В 3-й группе объединяются Маркион, «уроженец Понта», и его последователи маркиониты; учение Маркиона неск. раз упоминается в «Строматах» (Ibid. III 3. 12. 1-3; 4. 25. 1-4; V 1. 4 2-4), а также является объектом полемики в «Педагоге», однако без приведения имен оппонетов (Paed. I 8). К. А. критиковал представление Маркиона о различии между благим Богом и злым Демиургом (см. в ст. Дуализм) и связанное с ним утверждение, что рождение есть зло. В состав 4-й группы включены Карпократ и его последователи карпократиане, в т. ч. его сын Епифан. К. А. знал сочинение Епифана «О справедливости»; в «Строматах» карпократиане подвергаются критике как сторонники беспорядочных сексуальных отношений (Strom. III 2. 5-10; 4. 25. 5; анализ полемики см.: Bolgiani. 1967). Особую группу образуют Татиан, Юлий Кассиан и др. энкратиты; хотя их воззрения не являются гностическими в строгом смысле, К. А. связывал взгляды энкратитов со школой Валентина (см.: Clem. Alex. Strom. III 13. 92. 1) и видел в энкратизме одну из форм ложного гностицизма (подробный анализ полемики К. А. с энкратитами см.: Bolgiani. 1961-1962). В «Строматах» К. А. цитирует сочинения Татиана (Clem. Alex. Strom. III 12. 81. 1) и Юлия Кассиана (Ibid. 13. 91. 1); он указывает, что для обоснования своих убеждений энкратиты ссылались на апокрифическое «Евангелие египтян» (Ibid. 93. 1; ср.: Le Boulluec. 2007).
Тщательно изучая гностические сочинения и ведя постоянный полемический диалог с гностиками, К. А. не мог не испытывать обратного влияния гностических идей; при этом нек-рые из них он принимал сознательно, считая, что они основываются на не вполне корректном толковании гностиками Свящ. Писания и в силу этого могут быть исправлены и христианизированы. Вопрос о степени влияния гностических концепций на К. А. до наст. времени не был глубоко и всесторонне исследован в научной литературе. На параллели между гностицизмом и богословскими воззрениями К. А. указал Лилла (Lilla. 1971), однако его общие выводы остаются спорными, во многом вслед. того, что Лилла недостаточно учитывал как содержание антигностической полемики К. А., так и принципиальные различия внутри гностических направлений, объединяемых им в фиктивный и неопределенный «христианский гностицизм» (см.: Méhat. 1980; Kovacs. 1978. P. 10-11). Отношение учения К. А. к валентинианской гностической системе было предметом анализа в редакторских предисловиях и комментариях к «Извлечениям из сочинений Феодота...» (Casey. 1934; Sagnard. 1948), а также в работах Дж. Ковач (Kovacs. 1978), Дж. Дейвисона (Davison. 1983), Э. Проктера (Procter. 1995). В этих и др. исследованиях отмечается присутствие в сочинениях К. А. нек-рых концепций, имеющих явные параллели в учении валентиниан (как в его интерпретации самим К. А., так и в независимых интерпретациях сщмч. Иринея Лионского и Ипполита Римского); при этом рецепция К. А. отдельных гностических идей может быть подтверждена как на текстуальном, так и на смысловом уровне. Наиболее важными из параллелей являются: 1) учение о том, что помимо предназначенного для всех христиан учения, отраженного в Свящ. Писании, Иисус Христос передал апостолам некий тайный «гносис», к-рый далее передавался немногим посвященным в «мистерии» (см.: Clem. Alex. Strom. I 1. 13. 2; VI 15. 124. 6; гностические параллели см.: Iren. Adv. haer. I 3. 1; 25. 5; ср.: Lilla. 1971. P. 157-158; однако представление о содержании этого «гносиса» у К. А. и у гностиков различно); 2) признание передачи «гносиса» о трансцендентном Отце и научение избранных истинному знанию о Боге важнейшим делом Иисуса Христа и смыслом Боговоплощения (см., напр.: Clem. Alex. Strom. VI 15. 122. 1; 123. 1; VII 1. 2. 2-3; 3. 16. 6; ср.: Lilla. 1971. P. 158-163; однако в отличие от мн. гностиков К. А. не считал научение единственным делом Сына); 3) описание достигаемого гностиком высшего состояния духовного единства с Богом в гностических понятиях: «вхождение в Огдоаду» (см.: Clem. Alex. Srtom. VI 14. 108. 1; гностические параллели см.: Exc. Theod. 63; Hipp. Refut. VI 32. 9), «покой в Боге» (см.: Clem. Alex. Strom. VII 10. 57. 1; 11. 68. 5; гностические параллели см.: Exc. Theod. 63. 1) и т. п. (см.: Lilla. 1971. P. 184-188); 4) ангелология в целом, и в особенности учение о том, что душа при восхождении к Богу подвергается ангелами проверке, а затем последовательно проходит через различные «небеса» и достигает уподобления высшим ангелам (см.: Clem. Alex. Strom. IV 18. 116. 2 - 117. 2; VII 10. 57. 5; Exc. Theod. 26-27; Eclog. proph. 56-57; эта тема была также широко представлена в иудейской межзаветной апокалиптике, которая могла быть общим источником для гностиков и К. А.; подробнее об идее «восхождения души» см.: Bousset. 1901; Recheis A. Engel, Tod und Seelenreise. R., 1958; об ангелологии К. А. см.: Oeyen. 1965-1966; Bucur. 2009. P. 32-51).
Эти и др. примеры использования гностических концепций свидетельствуют о стремлении К. А. найти некие точки соприкосновения между гностицизмом и христианством; это стремление было в первую очередь вызвано миссионерскими задачами. К. А. был ориентирован не на выработку собственной системы «гностицизма» как внецерковного или антицерковного движения, но на переработку в миссионерских целях гностической концепции духовного совершенства и комплекса связанных с ней идей. Желая продемонстрировать приверженцам гностицизма, что приобретение истинного гносиса происходит не в обособленных группах вне христ. Церкви, но внутри Церкви, К. А. признавал истинными и вводил в собственное учение те периферийные элементы гностических систем, к-рые казались ему в целом согласующимися с христ. истиной и находящими подтверждение в церковном Предании. Вместе с тем к фундаментальным основоположениям гностицизма К. А. всегда подходил критически и при любой возможности указывал на их ошибочность (ср.: Procter. 1995. P. 111-113). Отвергая занимавшую центральное место в гностицизме фаталистическую сотериологию, в рамках которой вводилось природное разделение между избранными «духовными» гностиками и проч. «душевными» христианами, К. А. указывал на то, что спасение человека является результатом его сознательного и волевого движения к Богу (ср.: Kovacs. 1978. P. 225-228). Подчеркивая неразрывную связь подлинного христианского гносиса с христианской жизнью в Церкви, К. А. отмечал, что христианский гносис всегда является гармоничным развитием общедоступного вероучения христианства, а не альтернативой ему, и утверждал: «Только тот должен быть признан нами [истинным] гностиком, кто состарился в [чтении] Писаний, кто хранит апостольскую и церковную правильность учений (τὴν ἀποστολικὴν κα ἐκκλησιαστικὴν σῴζων ὀρθοτομίαν τῶν δογμάτων), кто живет праведной жизнью по Евангелию, находя с помощью Господа искомые им доказательства (ἀποδείξεις) [истины] в законе и в пророках. Ведь жизнь гностика, как я думаю, есть [приобретение] дел и слов, следующих Преданию Господа» (Clem. Alex. Strom. VII 16. 104. 1).
Учение
Основная сложность систематизации учения К. А. задается тем, что он не ставил перед собой задачу последовательного изложения всей совокупности христ. богословского учения или построения философско-богословской системы. Сочинения К. А. отражают его учительную деятельность и строятся по тематическому принципу; к наиболее важным для него темам К. А. возвращался неоднократно, всякий раз расширяя и уточняя свою позицию, используя для ее представления различные выразительные средства и понятийные языки. Во мн. случаях К. А. лишь косвенно и неявно указывал на тематические связи, существующие между различными частями и отдельными положениями излагаемого им учения; сознательно прибегая к «энигматичности», К. А. подчеркивал педагогическое значение такого способа представления знания: истина, полученная в результате собственного интерпретирующего труда, становится твердо усвоенной и закрепляется в сознании (ср.: Clem. Alex. Strom. IV 2. 4-7). Нередко придавая тематическим изложениям свободную и даже беспорядочную внешнюю форму, К. А. в действительности руководствовался определенным методом представления рассматриваемых им вопросов. Смысловым центром всех философско-богословских рассуждений К. А. является идея совместимости веры и знания. Полагая, что без преодоления крайностей фидеизма и рационализма невозможно полноценное построение христ. богословского учения, К. А. предлагал в качестве необходимой философско-богословской пропедевтики теоретическое обоснование такой совместимости, в рамках к-рого формулируются общие принципы согласования веры и знания. При обращении к частным богословским проблемам К. А. всякий раз на новом материале осуществлял подтверждение тезиса о гармоничной совместимости восходящего к божественному Откровению содержания христ. вероучения и результатов самостоятельного стремления человеческого разума к истине. Вслед. задаваемой этим двухмерным методом сложной структуры учение К. А. может быть корректно интерпретировано лишь при условии постоянного внимания к присущей ему двойственности: язык откровения и язык философии существуют для К. А. не в отрыве друг от друга, но в гармоничном взаимодополняющем единстве.
Философско-богословская пропедевтика: вера и знание.
Обращение К. А. к подробному рассмотрению проблемы соотношения веры и знания было обусловлено как внешними историческими обстоятельствами, связанными с его деятельностью в качестве церковного учителя и проповедника, так и внутренней логикой его мировоззрения. В «Строматах» К. А. сообщает о существовавших в его время 3 крайностях в трактовке вопроса о вере и знании. Представители 1-й крайности отвергали необходимость изучения любых наук; излагая их позицию, К. А. писал: «Некоторые, считая себя людьми одаренными, полагают, что не следует заниматься ни философией, ни диалектикой, и даже естественных наук изучать не нужно, и требуют одной лишь простой веры» (Clem. Alex. Strom. I 9. 43. 1). К. А. отмечал, что отказ от рационального познания обосновывался ссылками на то, что «заниматься нужно лишь самым необходимым и укрепляющим веру», поэтому нет смысла исследовать предметы, «не способствующие достижению конечной цели» (Ibid. I 1. 18. 2). Из рассуждений К. А. следует, что сторонники такого мнения были членами христ. общин; К. А. не называл их имен и указывал на них с помощью неопределенных местоимений «многие», «некоторые» и т. п. (см., напр.: Ibid. 6. 35. 1-5; VI 10. 80. 5; 11. 89. 1; 11. 93. 1). Вероятно, этих же христиан К. А. обозначал словом «правомыслящие» (ὀρθοδοξασταί), замечая, что они заботятся о добрых делах, однако при этом не понимают смысла тех дел, которые совершают (см.: Clem. Alex. Strom. I 9. 45. 6). Такие группы христ. противников рационального познания были во II в. распространенными и многочисленными; об этом свидетельствуют языческие полемисты с христианами, напр. Гален и Цельс, не упускавшие случая обвинить христиан в иррационализме. Так, Гален с неодобрением отмечал, что «последователи Моисея и Христа», т. е. иудеи и христиане, наставляя учеников, «предписывают им все принимать на веру» и не искать доказательств (см.: Walzer R. Galen on Jews and Christians. L., 1949. P. 15). К. А., вероятно, знал похожие высказывания и при формулировке собственного учения о вере стремился учесть их (Lilla. 1971. P. 118). Т. о., позиция языческих оппонентов христианства является 2-й крайностью, для которой характерна абсолютизация рационального знания; К. А. говорил в связи с ней об эллинах, осмеивавших веру и считавших ее «вещью пустой и варварской» (Clem. Alex. Strom. II 2. 8. 4). Представителями 3-й крайности были гностики, также рассматривавшие веру как несовершенный и недостаточный способ познания, однако противопоставлявшие ей не рационально-логическое познание, а сверхрациональное знание-гносис; их позицию К. А. формулировал следующим образом: «Валентиниане оставляют веру таким простакам, как мы, о себе же, спасенных по природе, утверждают, что в них обитает гносис в соответствии с преимуществом отделяющего их [от прочих людей духовного] семени» (Clem. Alex. Strom. II 3. 10. 2). К. А. подчеркивал, что в гностических системах знание и вера понимаются как природные свойства человека, так что обладание ими находится не в его власти. Отвергая это мнение, он противопоставлял ему учение о добровольном и постепенном характере формирования у человека веры и знания. Для успешного обоснования совместимости веры и знания и демонстрации несостоятельности всех 3 крайностей К. А. требовалось решить несколько задач: 1) раскрыть базовую структуру научно-философского познания и показать, что в нем неизбежно присутствует элемент веры; 2) установить связь между научно-философским и религ. представлениями о вере и ее роли в познании; 3) определить отношение религ. веры к разным видам познания: от повседневного знания до высшего мистико-созерцательного познания Бога, т. е. гносиса.
I. Терминология К. А. Анализ представлений К. А. о познании затрудняется подвижностью и недостаточной определенностью используемой им терминологии: он мог предлагать разные объяснения для одних и тех же терминов и использовать их в различных смыслах в зависимости от контекста и содержания рассуждения (общий анализ см.: Völker. 1952. S. 303-321). Для обозначения знания К. А. чаще всего применял 2 термина: γνῶσις и ἐπιστήμη. Употребляя слово γνῶσις в широком смысле, К. А. выражал с его помощью различные аспекты понятий «знание» и «познание»; т. о., γνῶσις - это любое познавательное содержание и одновременно процесс овладения этим содержанием, т. е. знание и познание как соответственно качество и деятельность души (см.: Clem. Alex. VI 1. 3. 1-2; 8. 68. 3; 8. 69. 2). В специальном философском значении слово γνῶσις использовалось К. А. для обозначения высшего созерцательного познания, «надежного знания о самом сущем» (см.: Ibid. II 76. 3). Кроме того, К. А. использовал слово γνῶσις в узком религ. смысле, обозначая с его помощью как объективную полноту христ. истины, открываемой Богом, так и обладание этой истиной, которого достигает «гностик», т. е. совершенный христианин (см., напр.: Ibid. IV 20. 136. 5; VI 16. 146. 3; Quis div. salv. 7; хотя строгое разведение значений не всегда возможно, далее при употреблении в 1-м значении термин γνῶσις переводится как «знание» и «познание», а при употреблении во 2-м и 3-м значениях - как «гносис», «знание-гносис», «гностическое знание»). Еще более сложным для интерпретации является употребление К. А. понятия ἐπιστήμη. Первоначальный философский смысл этого понятия сложился у Платона: в его ранних диалогах оно указывает на надежное знание в его отличии от произвольного мнения (δόξα); в поздних диалогах ἐπιστήμη приобретает специальное значение познания, направленного на идеи, к-рые объявляются единственным источником надежного знания (см., напр.: Plat. Men. 85d - 86c; Idem. Resp. 476a-480a). Аристотель продолжал употреблять термин ἐπιστήμη в широком значении для обозначения надежного знания в целом; так, во «Второй аналитике» он утверждал: «Не всякое надежное знание доказательно, но надежное знание непосредственного недоказательно» (см.: Arist. Anal. poster. I 3. 72b15-25). При этом обычно термин ἐπιστήμη употреблялся Аристотелем для обозначения не эмпирического, а теоретического знания, т. е. знания об общем, о причинах и о началах (см.: Ibid. I 1-3). Кроме того, у Аристотеля появляется специальное значение, связанное со способом получения знания: ἐπιστήμη - это «доказательное знание» (ἐπιστήμη ἀποδεικτική), т. е. знание, являющееся результатом научного доказательства. При этом термином «доказательство» (ἀπόδειξις) Аристотель обозначал выведение посредством силлогизма из недоказуемых общих начал общих и частных истинных положений, из к-рых складывается содержание ἐπιστήμη как системы взаимосвязанного истинного научного знания, т. е. как науки; в этом же аристотелевском значении понятие «доказательство» употреблял К. А. (см. 8-ю кн. «Стромат»: Clem. Alex. Strom. VIII 3. 5. 1 - 3. 7. 8). Понимание ἐπιστήμη как цельной системы знаний стало преобладающим в стоицизме, где термин ἐπιστήμη обозначал совокупность всего истинного знания о началах, к-рым обладает только мудрец (см., напр.: SVF. II 90, 93). К. А. знал и учитывал все приведенные значения понятия ἐπιστήμη; поскольку обычно он использовал это понятие без специальных уточнений, лишь анализ контекста позволяет определить, в каких случаях К. А. подразумевал надежное знание в общем смысле, а в каких - научное знание, т. е. знание начал и причин, а также результатов доказательств, строящихся на основании начал (ср.: Völker. 1952. S. 313-316; далее ἐπιστήμη при употреблении в 1-м значении передается как «надежное знание», а при употреблении во 2-м значении - как «научное знание»). Понятие πίστις К. А. также употреблял в двойственном значении: в одних случаях оно обозначает веру как общечеловеческое свойство, уверенность и убежденность в чем-то; в др. случаях оно имеет специфически христ. значение и используется для указания на волевой акт принятия в качестве истинного всего христианского откровения, содержащегося в Свящ. Писании и церковном Предании. Поскольку К. А. ставил перед собой задачу демонстрации внутренней взаимосвязи этих двух значений, в предлагаемой им аргументации они постоянно чередуются и переплетаются (ср.: Völker. 1952. S. 234-239).
II. Знание и вера в научно-философском познании. В учении о познавательном процессе К. А. опирался на классическую аристотелевскую схему познавательного акта, однако вводил в нее в качестве параллелей или дополнений ряд стоических и платонических понятий (общий обзор теории познания К. А. см.: Scherer. 1907; Wolfson. 1956. P. 120-122; Feulner. 2006. S. 84-103; Giulea. 2009). Описывая движение человека к вынесению истинного суждения, К. А. выделял 4 области, для каждой из которых характерна собственная частичная истинность (τεσσάρων ὄντων ἐν οἷς τὸ ἀληθές): 1) «ощущение» (αἴσθησις); 2) «уразумение» (νοῦς); 3) «надежное знание» (ἐπιστήμη); 4) «предположение» (ὑπόληψις). Этим 4 областям соответствуют 4 формы познавательного процесса: 1) чувственное восприятие объекта и формирование чувственного образа; 2) интуитивное охватывание воспринятого чувствами содержания разумом и формирование разумной идеи; 3) «соединение ощущения с уразумением», образующее содержание надежного знания (ἐκ αἰσθήσεως κα τοῦ νοῦ ἡ τῆς ἐπιστήμης συνίσταται οὐσία); при этом «надежность» задается тем, что чувства и разум совместно нацелены на достижение «ясности» или «очевидности» (τὸ ἐναργές); 4) формирование предположения, т. е. предлагаемого для принятия в качестве истинного предварительного понятия (см.: Clem. Alex. Strom. II 4. 13. 2). Интерпретируя эту схему познания, К. А. учитывал различие между эмпирическим и теоретическим познанием: эмпирическое познание основывается на опыте, вслед. чего получаемое в результате познавательного акта знание об общем является разумным обобщением предлагаемого в ощущениях знания о частном. Теоретическое познание начал, по мнению К. А., невыводимо напрямую из опыта; это знание есть результат самостоятельных актов разума, в своей творческой деятельности формирующего теоретические предположения. Согласно К. А., на стадии принятия предположения разумом в качестве истинного в процесс познания включается «вера» (πίστις), которая, «пройдя через область ощущений, оставляет позади себя предположение, устремляется к неложному и утверждается в истине», т. е. превращает предположение в истинное суждение (Ibid. 3). При эмпирическом (основывающемся на чувственном опыте) познании вера, т. е. убежденность в истинности чего-либо, основывается на очевидности совместного акта чувств и разума (подробные рассуждения о познании, представленные в материалах 8-й кн. «Стромат», по большей части относятся именно к этому виду познания и вслед. этого не могут считаться полным и адекватным представлением всей в целом теории познания К. А.; анализ их содержания см.: Lilla. 1971. P. 118-136; Zhyrkova. 2010; Havrda. Galenus Christianus. 2011; Idem. Categories in Stromata VIII. 2012). Напротив, при чистом теоретическом познании начал объективное основание для веры отсутствует, поскольку разум опирается лишь на результаты собственной деятельности (см., напр.: Clem. Alex. Strom. V 1. 7. 4-5; 3. 16. 1-4). Фундаментальная проблема теории познания, связанная с поиском оснований истинности знания о началах, получала в греч. философии до К. А. разные решения: Платон утверждал, что знание о началах есть припоминание душой (умом) созерцания идей в умопостигаемом мире; согласно Аристотелю, это знание есть результат обработки деятельным умом совокупности опыта, сохраненного в памяти; согласно стоикам, разуму в силу его «природного стремления» изначально присущи общие представления о важнейших началах. Учитывая все эти позиции, К. А. не принимал целиком ни одну из них. Согласно К. А., требующееся для всякого научного знания представление о началах не может быть результатом актов эмпирического познания, но есть «предварительное знание» (προγινωσκομένον), предоставляемое верой. Применительно к началам отдельных наук К. А. понимал эту «веру» по-аристотелевски: как убежденность в истинности общих понятий, которые являются результатом свободной деятельности разума, опирающегося в своем суждении как на отдельные данные чувств, так и на совокупность опыта. Однако К. А. не признавал, что разум может самостоятельно перейти от знания начал отдельных наук к знанию «начала всего в целом» (ἡ τῶν ὅλων ἀρχή). К. А. подчеркивал, что греч. философы не смогли приобрести знание о едином начале, т. к. оно вообще не может быть приобретено естественным образом (Clem. Alex. Strom. II 4. 14. 1-2). Это знание, согласно К. А., не является внутренним результатом деятельности разума, но приобретается извне; убежденность в его истинности основывается на авторитете субъекта, предлагающего суждение человеку для принятия, т. е. на доверии к источнику знания (Clem. Alex. Strom. II 4. 14. 1; ср.: Ibid. 6. 28. 1-2). Именно это высшее знание является наиболее важным объектом веры: принимая верой открытое Богом знание о Нем как истинное, человек приобретает знание о высшем начале, сводящее воедино и подчиняющее себе все относительные сведения о началах наук. Поэтому религ. вера необходима даже в научно-философской области, т. к. без нее научное знание оказывается незавершенным и неполным. Такая вера есть «благодатный дар» (χάρις), который возводит ум человека «от недоказуемого к всеобщему», т. е. «к простому» (Ibid. 4. 14. 3). Под этим «простым» в философской сфере К. А. понимал Логос и содержащиеся в Нем Божественные идеи; следуя платоническому представлению об идеях как о нематериальных началах всех вещей, К. А. отмечал, что познаваемое верой простое «не связано с материей, не является материей и не подчинено материи» (Ibidem; ср.: Ibid. VII 16. 95. 6; II 2. 9. 4).
Т. о., вера присутствует в познавательных актах всех видов: в эмпирическом познании она является убежденностью, проистекающей из эмпирической очевидности; в познании частных умопостигаемых начал она предстает как уверенность, проистекающая из единства воспринимающей и творческой функций разума; в познании единого начала всего она оказывается доверием к Богу как к высшему источнику истины. Возможность веры, согласно К. А., задается природной свободой человека, поэтому вера есть «свободный выбор» (προαίρεσις), волевое решение человека, зависящее исключительно от него самого (см.: Clem. Alex. Strom. II 2. 9. 2). Свободный акт, в котором человек, руководствуясь верой, принимает нечто как истинное, К. А. обозначал с помощью стоического термина «согласие» (συγκατάθεσις - Ibid. II 2. 8. 4; 12. 54. 5 - 55. 1; V 13. 86. 1; ср.: Lilla. 1971. P. 127-129). Основная функция веры в научно-философском познавательном процессе заключается в том, что, обращаясь к совокупности обрабатываемых разумом «предположений», вера свободно признает нек-рые из них истинными, т. е. выступает в роли «критерия». Эту функцию веры К. А. подчеркивал ссылкой на аристотелевское определение: «Аристотель называет верой следующее за надежным знанием суждение о том, что нечто является истинным; итак, вера важнее надежного знания и является критерием для него» (Clem. Alex. Strom. II 4. 15. 5). Хотя в том виде, в каком его приводит К. А., это определение не встречается у Аристотеля, оно согласуется с аристотелевским учением и, вероятно, является обобщающим пересказом мнения Аристотеля на языке эллинистической философии, заимствованным К. А. из какого-то популярного сборника философских мнений или учебника (подробнее см.: Searby. 1999). Поскольку вера в своем суждении опирается лишь на предварительное надежное знание, но не обладает полнотой научного и гностического знания, К. А. использует для описания природы веры эпикурейско-стоическое понятие «предвосхищение» (πρόληψις; см.: Clem. Alex. Strom. II 4. 16. 3 - 17. 3). При этом «предвосхищение», по мысли К. А., отличается от «неосновательного предположения» (ἀσθενὴς ὑπόληψις - Ibid. 16. 1) и мнения тем, что оно проистекает из истинного надежного знания и ведет к истинному научному знанию. В силу этого результатом процесса доказательства, основанного на разумном предвосхищении и свободном предположении, является «гносис», т. е. истинное знание о началах, тогда как доказательство, основанное на субъективно признаваемом истинным неосновательном предположении и мнениях, приводит лишь к «прогносису» (πρόγνωσις), т. е. к предварительному и смутному суждению о началах (см.: Clem. Alex. Strom. II 11. 1-2; 6. 28. 1).
Согласно К. А., хотя вера всегда присутствует в познавательном акте, разум не останавливается на вере и связанном с ней надежном знании, но стремится к приобретению научного и гностического знания. Путем к научному знанию является «доказательство». Связывая учение о доказательстве с учением о вере, К. А. подчеркивал, что доказательство не может уходить в бесконечность, поэтому в основании всякого доказательства должны лежать первые принципы, к-рые не доказываются, но до доказательства принимаются как истинные (Clem. Alex. Strom. II 4. 13. 4); у Аристотеля такие принципы называются «непосредственные положения», «аксиомы», «тезисы» (см.: Arist. Anal. poster. I 1. 72a1-20). По утверждению К. А., эти «непосредственные положения» тождественны суждениям, к-рые принимает вера. Опираясь на них и двигаясь по пути логически правильного построения доказательств, разум постоянно расширяет область познанных им истинных суждений; результатом процесса доказательства является установление связей между суждениями и формирование цельного научного знания как системы взаимосвязанных истинных утверждений. Этому научному знанию К. А. давал стоическое определение: оно есть «познавательное расположение, из которого проистекают конкретные акты познания» и результатом к-рого является «постижение (κατάληψις), неопровержимое рассуждением» (Clem. Alex. Strom. II 17. 76. 1). К. А. перечислял различные виды познания, связанные с научным знанием: 1) «опыт» (ἐμπειρία), т. е. научное знание совокупности ощущений; 2) «познание видов» (εἴδησις), т. е. знание всеобщего, приобретаемое посредством видового деления или подведения частного под виды; 3) «уразумение» (νόησις), т. е. знание умопостигаемого; 4) «сопоставление» (σύνεσις), т. е. знание, выявляющее связи вещей и понятий; 5) «гносис», т. е. знание всего сущего в его целостности и согласии (Clem. Alex. Strom. II 17. 76. 2-3). Т. о., двигаясь «путем рассуждения» (διὰ τοῦ λόγου) от частного к общему и от конкретного к абстрактному, разум переходит из сферы знания, связанного с чувственным миром, в сферу чистого умозрения и созерцания высших начал, он познает их как причины и возводит к ним все многообразие бытия, приобретая цельное гностическое знание. На последней стадии разум уже обладает истиной и потому не нуждается в вере, однако без принятия верой начал он не может возвыситься до созерцания; т. о., вера является необходимым средством для приобретения знания-гносиса и присутствует в уме в снятом виде как постоянное твердое признание истинности гностического знания.
III. Религиозная интерпретация соотношения веры и знания. Сформулировав и обосновав учение о соотношении веры и знания для области научно-философского познания, К. А. последовательно перенес это учение во всех его частях в сферу религ. познания. Согласно К. А., предельным «началом», на к-ром основывается вся вера и все знание, является откровение Бога, в к-ром Он дарует истинное знание о Себе. Признавая историчный характер этого откровения, К. А. подчеркивал, что оно дано Богом в Логосе, воплотившемся Сыне Божием, и содержится в евангельской проповеди, письменным выражением которой является Свящ. Писание (ср.: Clem. Alex. II 2. 9. 6; 6. 27. 2-3; VII 16. 95. 6; 16. 96. 1). Первичным способом отношения человека к откровению Божию является согласие на его принятие в качестве истинного, т. е. вера, или его отвержение, т. е. неверие; при принятии этого решения человек действует исключительно на основании собственной свободы, а не повинуясь некоему внешнему принуждению. Исходя из этого, К. А. определял религиозную веру как «первое склонение к спасению» (πρώτη πρὸς σωτηρίαν νεῦσις - Ibid. II 6. 31. 1), т. е. первичный акт добровольной покорности Богу, следствием к-рого являются все последующие дела, совершаемые ради спасения. Начальная религиозная вера соответствует философской вере на стадии эмпирического познания: она является простым согласием и принимает в силу доверия к источнику без всякого рассмотрения предлагаемую истину как надежное знание. К. А. называл такую веру «общей» (κοινή; см., напр.: Ibid. IV 16. 101. 1; V 4. 26. 1), т. к. она одинаково свойственна всем христианам, т. е. всем членам Церкви; она является неизменным «основанием» христ. жизни (Ibid. V 1. 2. 5; VII 10. 55. 5). По словам К. А., такая вера «есть сокровенное благо»; она «не ищет Бога, но исповедует Его Богом и прославляет как Бога» (Ibid. VII 10. 55. 2). Не соглашаясь со свойственной гностикам тенденцией принижать общую веру, К. А. настаивал на ее полноте и спасительности, заявляя со ссылкой на ап. Павла, что общая христ. вера утверждается на «силе Божией» (1 Кор 2. 5), которая «может даровать спасение через простую веру без всяких доказательств» (Clem. Alex. Strom. V 1. 9. 2; ср.: Ibid. II 12. 53. 5; V 3. 18. 1; Camelot. 1945. P. 45-50). При этом общая вера, по мысли К. А., не существует в отрыве от знания, т. к. она есть согласие на признание надежным определенного предварительного знания, а именно - прямого смысла открытой в Свящ. Писании и церковном Предании истины; в этом отношении вера есть «сжатое гностическое знание необходимого» (Clem. Alex. Strom. VII 10. 57. 3). Вместе с тем, возражая христ. противникам познавательных стремлений человека, К. А. подчеркивал, что общая вера, будучи надежным знанием, может стать «совершенной» (τελειότη) и «наилучшей» (ἐξαίρετος), т. к., соединяясь с научным знанием, вера «растет», достигает совершенства и в высшей точке своего развития целиком переходит в гносис (см.: Ibid. V 1. 2. 4 - 3. 1; ср.: IV 16. 101. 1; V 1. 11. 1; VII 16. 95. 9).
Отношение простой веры к совершенной вере и к гносису К. А. понимал аналогично отношению эмпирического надежного знания к теоретическому научному знанию, связанному с поиском начал и причин. Средством приобретения научного знания являются рассуждения и доказательства, основывающиеся на заранее установленных и принятых началах; при этом конечным результатом является более полное и более точное знание об этих началах, приобретаемое через изучение их следствий. В религиозной сфере это означает, что всякое гностическое знание должно основываться на являющихся содержанием общей веры началах, т. е. на учении Свящ. Писания; результатом оказывается более глубокое познание содержания Свящ. Писания, т. е. его духовное истолкование: «Может ли наше доказательство не быть единственным истинным, если оно заимствуется из Божественного Писания, из священных книг и, согласно апостолу, из богопреподанной (θεοδιδάκτου) мудрости?.. Высшее доказательство, названное нами приносящим научное знание (ἀπόδειξις... ἐπιστημονική), вкладывает посредством изложения и объяснения Писания веру в души людей, стремящихся к научению, и эта вера уже есть гносис» (Clem. Alex. Strom. II 11. 48. 3; 49. 3; ср.: 1 Фес 4. 9; Barnaba. Ep. 21. 6; Athenag. Legat. pro christian. 11. 1; 32. 4). Т. о., принятые общей верой положения в процессе гностического исследования соотносятся друг с другом, а также со Свящ. Писанием как с их источником. Результаты исследования подтверждаются согласием разума, получая свидетельство в том, что они не противоречат общей вере, и далее становятся содержанием совершенной веры как субъективной убежденности в истинности приобретаемого религ. знания-гносиса.
Процесс синтеза положений веры и выводимого на их основании научного знания является первым этапом движения к полноте гносиса. Именно на этом этапе человеку могут принести значительную пользу светские науки (см.: Völker. 1952. S. 334-338). Отвечая противникам светского образования из числа христиан, К. А. соглашался, что знание наук необходимо не всем христианам и само по себе не имеет никакого значения для спасения; по его словам, хотя многознание и является свойством гностика, само по себе оно не относится к добродетелям (Clem. Alex. Strom. VI 10. 82. 1). Однако изучение наук требуется стремящемуся к гносису, поскольку они помогают ему лучше понимать Свящ. Писание; из каждой науки гностик призван усваивать то, что способствует достижению истины (см.: Ibid. VI 10-11; комментарий см.: Schneider. 1999. S. 249-263). Указывая на служебную роль всех светских наук, К. А. утверждал, что гностик должен видеть в них «предварительные упражнения» (προγύμνασμα), помогающие точному постижению истины и защите ее от «злокозненных рассуждений» язычников и еретиков (Clem. Alex. Strom. VI 10. 82. 4). К. А. не соглашался с тем, что изучение наук способно поколебать веру, заявляя, что вера, которая может быть разрушена «правдоподобным рассуждением» (πιθανολογία), не может считаться истинной верой. Христ. вера, согласно К. А., есть убежденность в истине и твердое согласие с ней; если у человека есть эта убежденность, то он обладает непоколебимой и непобедимой истиной, а если ее нет, то нет и подлинной веры (см.: Ibid. 81. 1). Философия, будучи высшей теоретической наукой, как и проч. науки, при стремлении к гносису имеет вспомогательное значение. По словам К. А., «все, чем коварно пользуются последователи [философских] школ, гностик сможет обратить ко благу» (Ibid. 83. 1). Как форма познания философия выполняет ту же функцию, которую выполняла историческая греч. философия, к-рая по Божию Промыслу готовила разум язычников к принятию истины, принесенной в мир Иисусом Христом. Философия помогает проводить сопоставление различных учений, очищает разум от ложных мнений и тем самым способствует его утверждению в вере, упорядочивает и организует все приобретаемое человеком знание (см.: Ibid. I 2. 20. 3; VII 3. 20. 2). Поскольку у христ. гностика все философские рассуждения соотносятся с началами, принятыми верой, совокупность его философских знаний получает право именоваться «истинной философией». Эта философия, по мнению К. А., есть «стремление к истинно сущему», т. е. к Богу (см.: Ibid. II 9. 45. 6; ср.: Ibid. I 5. 32. 4); она подводит к «мудрости», к-рая представляет собой «гностическое знание вещей божественных и человеческих, а также их причин» (Ibid. I 5. 30. 1), «надежное и неопровержимое постижение, сводящее воедино настоящее, прошлое и будущее» (Ibid. VI 7. 54. 1; ср.: Ibid. 55. 1-2; ср.: Feulner. 2006. S. 62-65).
Постоянное теснейшее взаимодействие веры и знания в религ. жизни К. А. подчеркивал с помощью понятий «верующее знание» (πιστὴ γνῶσις) и «знающая вера» (γνωστὴ πίστις). По его словам, верующее знание - это «согласное с истинной философией научное доказательство содержания Предания» (Clem. Alex. Strom. II 9. 48. 1). Знающая вера - это постоянно сохраняющееся в качестве основания для познания доверие «без всякого сопротивления» открывающему истину Логосу и «ученичество» у Него (Ibid. 4. 16. 2; V 13. 85. 2-3). Т. о., с т. зр. К. А., при движении к высшему гносису «благодаря божественным последовательности и согласованности (θείᾳ ἀκολουθίᾳ τε κα ἀντακολουθίᾳ) знание становится верующим, а вера - знающей» (Ibid. II 4. 16. 2; комментарий см.: Rizzerio. 1987). Возражая гностикам, к-рые пытались отделить гностическое знание от веры, К. А. утверждал: «Не существует ни знания без веры, ни веры без знания» (Clem. Alex. Strom. V 1. 1. 3). Подобно тому как в философско-научном познании достигающий полноты истины разум уже не нуждается в вере как в инструменте познания, но сохраняет ее как устойчивое состояние согласия, в религ. познании достигающий высшего гносиса сохраняет «гностическую веру» вслед. тождества объекта веры и познания. Если в начале пути к гносису принимаемое верой богооткровенное содержание вероучения определяет направление и задачу гностического познания, то при достижении гносиса его содержание целиком вбирает в себя первичное содержание веры. Именно в этом смысле К. А. говорил о том, что «знать есть нечто большее, чем веровать» (Clem. Alex. Strom. VI 14. 109. 2), и описывал движение к гностическому совершенству как «переход от веры к гносису» (см.: Ibid. VII 10. 55. 6; 57. 4; ср.: Völker. 1952. S. 369-373).
Приобретение гносиса, как и приобретение научно-философского знания, происходит посредством движения разума от частного к общему и от следствий к причинам. На начальной стадии содержание гностического знания тождественно принятым верой частным положениям, источниками к-рых служат Свящ. Писание и церковное Предание. Далее разум исследует и обобщает усвоенное вероучительное содержание в «доказательствах», т. е. экзегетических рассуждениях. Получая поддержку от Божественного Логоса и под Его руководством соотнося сверхъестественное содержание откровения с результатами естественного познания мироздания, разум приобретает гностическое знание о частных началах, т. е. об основных принципах, определяющих отношение Бога к творению, и о Боге как о первопричине: «Задача научного познания относительно божественных предметов состоит в том, чтобы исследовать, во-первых, что является первопричиной (τὸ πρῶτον αἴτιον), и Кто есть Тот, через Кого все начало быть, и без Кого ничто не начало быть; во-вторых, каковы [начала] проникающие и каковы объемлющие, каковы соединяющие и каковы разделяющие, а также какой у каждого из них порядок, какая сила, какое служение» (Clem. Alex. Strom. VII 3. 17. 2). От рационального богопознания ум человека, становясь причастным Логосу и соединяясь с Ним (ср.: Ibid. 10. 55. 1), восходит к «наивысшей Сущности» и «запредельному Богу», т. е. достигает богосозерцания. Этот процесс восхождения К. А. соотносил с аристотелевской «метафизикой» и платоновской «диалектикой» (см.: Ibid. I 28. 176-178; подробнее см.: Völker. 1952. S. 384-403). Для описания высшего гносиса как богосозерцания К. А. использовал библейское понятие «мудрость» (σοφία), философское понятие «теоретическое созерцание» (θεωρία) и восходящее к греческим мистериальным практикам понятие «мистическое созерцание» (ἐποπτεία). Согласно К. А., на вершине гносиса ум человека «погружается в созерцание и в чистоте общается с Божеством»; он «делается гностически причастным святому состоянию» (γνωστικῶς μετέχων τῆς ἁγίας ποιότητος) и «становится все ближе к пребыванию в бесстрастной самотождественности», так что «уже не имеет научного знания и не приобретает гносиса, но сам есть научное знание и гносис» (Clem. Alex. Strom. IV 6. 40. 1). В этом состоянии ум не действует, но обретает совершенный покой, и человек «в чистоте сердца лицом к лицу с полнотой познания и постижения мистически созерцает Бога» (Clem. Alex. Strom. VII 10. 57. 1; ср.: Мф 5. 8; 1 Кор 13. 12). Т. о., хотя даже в высшей форме чистого богосозерцания религ. гносис отчасти сохраняет познавательную природу, важнейшей его составляющей оказывается уже не гностическое знание Бога, а любовь к Богу, к-рая есть «совершенство гностической души», т. к. посредством ее душа обретает постоянное пребывание с Господом (Clem. Alex. Strom. VII 10. 57. 2; ср.: Ibid. 55. 5-7). Вслед. ориентации на эту цель религ. гноcис отличается от научно-философского гносиса и обладает особым теоретико-практическим характером. Совершенству гностического знания в истинном гностике должно соответствовать совершенство добродетельной жизни. Соединяя учение о религ. познании с учением о спасении и обожении, К. А. отмечал, что теоретическое знание о Боге недостижимо без практического уподобления Богу и стремления к соединению с Ним, поэтому путь приобретения гностического знания о Боге не может быть отделен от пути деятельной любви к Богу.
Учение о Боге
При изложении учения о Боге К. А., следуя общему принципу согласования веры и знания, стремился совместить открытое в Свящ. Писании истинное знание о Боге в Самом Себе и в Его отношении к миру с философским учением о Боге как о трансцендентном Первоначале. Для философской интерпретации Свящ. Писания К. А. использовал преимущественно платоническую понятийную систему. Излагая апофатическое учение о Боге, К. А. нередко следовал Филону Александрийскому как в выборе подвергаемых рассмотрению библейских мест, так и в способах их философского объяснения. При построении учения о сущности Бога К. А., подобно Филону Александрийскому и средним платоникам, опирался на платоновское учение о Боге, выраженное в словах из диалога «Тимей»: «Творца и Родителя всего отыскать затруднительно; а если и будет Он найден, то высказать Его для всех невозможно» (Plat. Tim. 28c; ср.: Idem. Ep. 7. 341c; К. А. цитирует это высказывание Платона 4 раза: Clem. Alex. Protrept. 6. 68. 1; 10. 105. 1; Strom. V 12. 78. 1; 14. 92. 3). Точно следуя Платону, К. А. вместе с тем дополнял и расширял апофатическое платоническое учение катафатическим христ. пониманием богопознания, опираясь преимущественно на Евангелие от Иоанна. Вслед. этого в учении К. А. о Боге и путях богопознания могут быть выделены 3 основные темы: 1) трансцендентность Бога по отношению к творению; Его непознаваемость для естественного разума и познаваемость для причастного Логосу разума; 2) апофатическая неизреченность Бога, т. е. принципиальная невозможность выразить знание о Нем в понятиях и именах; 3) катафатические свойства Бога, являемые через Его Силу, т. е. через Божественный Логос.
I. Непознаваемость и познаваемость Бога. Подобно Филону Александрийскому и мн. средним платоникам, К. А. считал, что естественное познание Бога для человека невозможно вследствие фундаментального природного различия между Богом и человеком. Подчеркивая, что человеческий разум не может собственными усилиями достичь истинного знания о Боге, К. А. отмечал, что Бог как Первопричина всегда пребывает «превыше времени, места, имени и мысли»; Он не может быть «изучен» человеком (Clem. Alex. Strom. V 11. 71. 5). Бог, будучи нетварным Творцом, не может быть сродни сотворенному (Ibid. II 2. 5. 4), поэтому «человек не в силах выразить истину о Боге, слабый и смертный - о безначальном и нерушимом, тварь - о Творце» (Ibid. VI 18. 165. 5). К. А. указывал, что всякое научное знание о природе и сущностях исходит из заранее известного первоначала. Бог, будучи «первым и древнейшим началом» (ἡ πρώτη κα πρεσβυτάτη ἀρχὴ) всех вещей, не имеет к.-л. начала, к-рое было бы первично по отношению к Нему, поэтому Его сущность не может быть найдена путем основывающегося на началах научного доказательства (Ibid. V 12. 81. 4; 82. 3). Вслед. этого Бог «недоказуем» (ἀναπόδεικτος - Ibid. IV 25. 156. 1) и «не познаваем научным познанием» (οὐκ ἐπιστημονικός - Ibidem); в терминах теории познания К. А. это означает, что истинное знание о природе Бога не может быть результатом человеческих размышлений и рассуждений. Продолжая традицию Платона и Филона, К. А. утверждал, что Бог далек от человека «по Своей сущности (κατ᾿ οὐσίαν), однако по Своей Силе (δυνάμει; в контексте учения о Боге это слово является одним из имен Сына Божия.- Авт.), Которой объемлется всё, является ближайшим» (Clem. Alex. Strom. II 2. 5. 4; ср.: Philo. De poster. Cain. 20). В рамках апофатического рассуждения о Боге К. А. называл Его «бездной» (βυθός; этот термин активно использовали гностики), отмечая, что Он не является ни целым, ни частью; ничего в Себе не содержит и ничем не содержится, не может быть ограничен или разделен (см.: Clem. Alex. Strom. V. 12. 81. 3, 5-6; II 2. 6. 1-3; ср.: Lilla. 1971. P. 213-216; Hägg. 2006. P. 173-179).
Соглашаясь c тем, что сущность Бога не может быть познана естественным разумом человека, К. А., однако, не принимал тотального трансцендентализма Филона. В отличие от Филона К. А. не формулировал в явном виде учение о полной непознаваемости сущности Бога; попытки Лиллы (см.: Lilla. 1971. P. 217-221) и др. разделяющих его позицию ученых (см., напр.: Hägg. 2006. P. 211-212) найти у К. А. такое учение являются несостоятельными и основываются на некорректном смешении рассуждений К. А. о различных этапах и видах познания. У Филона учение о непознаваемости Бога выражается посредством прямых утверждений: по его словам, даже совершенный человек познает не сущность, чтойность или бытие (οὐσία; τὸ τί ἐστι; τὸ εἶναι) Бога, но лишь реальность Его «существования» (ὕπαρξις) и следствия этого существования, т. е. действия сил Бога; по Своей сущности Бог всегда есть «непостижимый» (ἀκατάληπτος) для человеческого ума (см.: Philo. De poster. Cain. 13-20, 168-169; Idem. De praem. 38-40; Idem. Quod Deus sit immut. 62). К. А. не повторял этих утверждений Филона в такой однозначной форме; в отличие от цитируемых им гностиков (см.: Clem. Alex. Exc. Theod. 7. 1; 23. 4-5) он намеренно избегал называть Бога «непознаваемым» (ἄγνωστος), поскольку для К. А. гностическое познание Бога есть цель движения человека к совершенству. Рассуждая о непознаваемости и познаваемости Бога, К. А. неявно, но последовательно различал ум обычного человека, находящегося в природном состоянии и не имеющего благодатной поддержки от Логоса, и ум гностика, все познание к-рого основывается на принятом верой откровении Логоса и осуществляется в «свете» Логоса. Для тех способов познания, к-рые имеет естественный разум, или, используя выражение К. А., для «человеческой мудрости», сущность Бога действительно всегда остается недоступной (см.: Strom. II 2. 6. 1). Однако просвещенный благодатью разум на вершине истинного гносиса может достичь истинного знания сущности Бога, к-рое, однако, является не понятийным «схватыванием» сущности Бога и ее дискурсивным «познанием», но интуитивным «постижением», т. е. созерцательным соприкосновением с ней ума. Формулируя христ. решение вопроса о познаваемости сущности Бога, К. А. утверждал, что ум, не имеющий собственных способов познать Бога, получает возможность «мыслить непознаваемое» (τὸ ἄγνωστον νοεῖν) «по благодати» Бога и «исключительно через Его Логос» (Ibid. V 12. 82. 4; ср.: Ibid. 11. 71. 5). Неявно возражая Филону, утверждавшему, что Бог постигается только Самим Богом, К. А. отмечал, что «нет ничего непостижимого для Сына Божия и нет ничего, чему Он не мог научить; ибо Тот, Кто пострадал по любви к нам, не станет утаивать от нас ничего, относящегося к научению гносису», поэтому гностик «постигает непостижимое» под руководством Логоса (Ibid. VI 8. 70. 2). Осуществляя аллегорическое истолкование предлагаемых христианам для вкушения Плоти и Крови Логоса, К. А. говорил, что они обозначают «мистическое созерцание» (ἐποπτικὴ θεωρία), в котором гностик получает «постижение Божественной силы и сущности» (κατάληψις τῆς θείας δυνάμεως κα οὐσίας - Clem. Alex. V 10. 66. 2) и «гностическое познание Божественной сущности» (γνῶσις τῆς θείας οὐσίας - Ibid. 3). Эта «Божественная сущность» есть сущность Логоса, однако К. А., предвосхищая никейское богословие единосущия, был убежден в тождественности сущности Бога и Логоса, Отца и Сына (ср. ст. Единосущие). Следуя учению НЗ (см.: Мф 11. 27; Лк 10. 22; Ин 1. 18; 14. 6-11), К. А. полагал, что, соединяясь «по силе» (т. е. по благодати) с Сыном, достигший гностического совершенства человек не становится с Ним одним по сущности, однако вступает в непосредственное соприкосновение с Его Божественной сущностью, непрестанно созерцает ее и тем самым «видит» сущность Отца через Сына (см.: Clem. Alex. Strom. V 1. 1. 1-5; VI 1. 2. 2-3; 16. 138. 4; ср. также: Ibid. I 28. 178. 1-2).
II. Неизреченность Бога. Опираясь как на библейское учение (см., напр.: Еф 1. 21), так и на 2-ю ч. отрывка из «Тимея» Платона и параллельное место из его же 7-го письма (Plat. Tim. 28c; ср.: Idem. Ep. 7. 341c), К. А. полагал, что сущность Бога всегда остается невыразимой в словах и понятиях. Хотя ум гностика и может прикоснуться к сущности Бога через Логос, он не в состоянии перенести интуитивное созерцание в дискурсивное знание. Объясняя этот тезис в философских понятиях, К. А. последовательно показывал неприменимость к Богу всех форм выражения в языке умопостигаемого содержания. Согласно К. А., сущность Бога не может быть выражена ни посредством определения, ни в понятии, ни с помощью имени. Понимая «сущность» в аристотелевском смысле, т. е. как представляемый в определении ответ на вопрос «что есть это?», К. А. подчеркивал, что определение Бога не может быть сформулировано, поскольку к Нему не могут быть приложены к.-л. определяющие Его предикаты (τὰ λεγόμενα; см.: Clem. Alex. Strom.V. 12. 81. 5-6; 82. 2). Приводя школьный список основных философских категорий, использовавшихся для построения понятий: «род» (γένος), «видовое отличие» (διαφορά), «вид» (εἶδος), «индивид» (ἄτομον), «число» (ἀριθμός), «привходящее свойство» (συμβεβηκός), «субъект привходящего свойства» (ᾧ συμβέβηκέν τι), К. А. отвергал допустимость их применения для описания Бога и на этом основании отрицал, что Бог может быть «изречен», т. е. выражен в речи с помощью неких утверждений (Ibid. 81. 5). Похожий список встречается также у представителя среднего платонизма Алкиноя (Alcin. Epit. 10. 4; см.: Früchtel. 1937), однако апофатизм К. А. является более радикальным: в отличие от Алкиноя он отрицает правомерность применения к Богу не только категорий «род» и «вид», соответствующих аристотелевской второй сущности (т. е. выражающих общую природу неких вещей), но и категории «индивид», соответствующей первой сущности (т. е. имени, выражающему единичную вещь). Т. о., согласно К. А., сущность Бога является как невыразимой через что-то отличное от нее, так и не именуемой простым именем. К. А. отмечал, что и философские наименования Бога, в т. ч. имена Единое, Благо, Ум, Самосущее, и библейские Божественные имена, в т. ч. имена Отец, Бог, Творец, Господь, не могут считаться именами Бога в собственном смысле, т. к. они не выражают Его сущность в полноте, а являются лишь средствами, позволяющими разуму при обращении к размышлению о Боге опираться на некое приблизительное и частичное представление о Нем (Clem. Alex. Strom. V 12. 82. 1-2; ср. ст. Имя Божие). По утверждению К. А., «ни одно из этих имен не выражает Бога, но они все в совокупности указывают на Силу Вседержителя» (Ibid. 2).
III. Философские элементы в апофатическом богословии К. А. В исследовательской лит-ре XX-XXI вв. были предприняты попытки прояснить ряд положений апофатической части учения К. А. о Боге с помощью выявления тех источников, к-рые он использовал. Так, нек-рые ученые указывали на зависимость богословия К. А. от учения о Едином, выраженного в диалоге Платона «Парменид» (см., напр.: Whittaker. 1976. Р. 156-159; Idem. 1983; Runia. 2010. P. 183-185; Морескини. 2011. С. 145-147). По их мнению, говоря о Боге как о Едином и утверждая, что Он является неименуемым, беспредельным, неизобразимым, не есть целое и не имеет частей (см.: Clem. Alex. Strom. V 12. 81. 6), К. А. опирался на тезисы 1-й гипотезы диалога «Парменид» (см.: Plat. Parm. 137c-e; 142a), к-рые стали известны ему в интерпретации средних платоников. Согласно Дж. Уиттакеру, терминологическое сходство этого рассуждения К. А. с «Учебником платоновской философии» Алкиноя (см.: Alcin. Epit. 10. 4) может свидетельствовать о том, что К. А. и Алкиной опирались на общий промежуточный источник; при этом в отличие от Алкиноя К. А. использовал понятия «единое» и «беспредельное» (Whittaker. 1976. P. 158). Соотнося эти понятия, К. А. отмечал, что «единое неделимо, а потому беспредельно (ἄπειρον)»; эта беспредельность, по его утверждению, должна пониматься «не в смысле необозримости умом, но в смысле непротяженности и отсутствия границы», поскольку именно такое понимание позволяет заключить, что Бог есть «неизобразимое и неименуемое» Единое (Clem. Alex. Strom. V 12. 81. 6). Используемое К. А. различение 2 смыслов понятия «беспредельное» восходит к «Физике» Аристотеля, где с его помощью бесконечность как самостоятельно существующая беспредельная сущность (такую бесконечность Аристотель не допускает) отделяется от бесконечности как свойства, т. е. потенциальной бесконечной делимости, «необозримости» (см.: Arist. Phys. III 5. 204a8-15). К. А. занимает противоположную позицию, выражая языком Аристотеля платоническое учение о Едином как актуально бесконечном (др. интерпретацию см.: Шуфрин. 2006). Вероятнее всего, К. А. не опирался напрямую на диалог «Парменид» Платона, но использовал неизвестный среднеплатонический источник, с помощью к-рого осуществил синтез платонического представления о Едином с аристотелевской категориально-понятийной схемой.
С апофатическим учением К. А. о Боге связан также предлагаемый им метод умозрительного восхождения к Богу, к-рый, по мнению ряда исследователей, имеет смысловые параллели в философии среднего платонизма (см.: Wolfson. 1957; Whittaker. 1969; Hägg. 2006. P. 217-227). В рамках среднего платонизма было выделено 3 способа мышления о Боге: по отвлечению, по аналогии и по восхождению (см.: Alcin. Epit. 10. 5-6); из них К. А. использует лишь метод «отвлечения» (ἀφαίρεσις), к-рый он называет «анализ» (ἀνάλυσις). Как и Алкиной, К. А. пользовался геометрическими образами для описания движения разума от сложного к простому. В процессе абстрагирующего анализа от тела отнимаются его чувственно воспринимаемые качества; после удаления глубины, ширины и длины разум мыслит точку как монаду, расположенную в пространстве; отвлечение от пространственного расположения делает эту монаду умопостигаемой (см.: Clem. Alex. Strom. V 11. 71. 2). Г. Вольфсон полагал, что рассуждение К. А. было заимствовано непосредственно у Алкиноя (см.: Wolfson. 1957. Р. 147), однако Уиттакер справедливо указал на расхождения между К. А. и Алкиноем в названии метода и в описании его последней стадии (см.: Whittaker. 1969. Р. 113-114); т. о., вероятнее всего, Алкиной и К. А. опирались на общий философский источник, возможно, неопифагорейского происхождения. При этом фундаментальное отличие между христ. методом К. А. и философским методом Алкиноя состоит в том, что Алкиной останавливается на стадии «точки», тогда как К. А. продолжает рассуждение, соотнося апофатический метод восхождения к Богу с собственным учением о познании Отца через Сына. Согласно К. А., человеческий ум должен не останавливаться на созерцании абстрактной умопостигаемой монады, но призван соотносить себя с «величиной Христа» (μέγεθος τοῦ Χριστοῦ), т. е. уподобляться Логосу и соединяться с Ним по благодати, «со святостью продвигаясь к безмерности». Через Христа человек может приблизиться к «умозрению Вседержителя» (τῇ νοήσει τοῦ παντοκράτορος), познав «не то, что Он есть, но то, что Он не есть» (Clem. Alex. Strom. V 11. 71. 3; ср.: Hägg. 2006. P. 223-227). Т. о., согласно К. А., в Боге всегда остается нечто непознаваемое; не человеческий ум «охватывает» целиком Бога в познании, узнавая, что Он есть, но Божественный Логос, отрешая ум человека от всего познанного им ранее, позволяет ему достичь путем отрицания положительного «прикосновения умом» к Богу (см.: Runia. 2004. P. 266-268; ср. также: Rizzerio. 1998; Шуфрин. 2006).
IV. Катафатическое познание свойств Бога через Его Силу. Признавая, что в Своей сущности Бог всегда остается неизреченным, К. А. вместе с тем рассуждал о мн. свойствах Божиих. В строгом смысле в рамках богословских представлений К. А. все эти свойства открываются через Силу Бога, или Сына, и не могут быть прямо отнесены к непознаваемому Отцу. Однако, поскольку Сын есть Образ Отца и действует в неразрывном единстве с Ним, К. А. считал допустимым рассматривать свойства и действия Сына как свойства и действия Бога. Основываясь на учении и языке НЗ, где Иисус Христос именуется «Божия Сила и Божия Премудрость» (см.: 1 Кор 1. 24), К. А. полагал, что всякое откровение Бога о Себе Самом, в т. ч. данное в Свящ. Писании, является откровением Силы Бога (см., напр.: Clem. Alex. Strom I 20. 100. 1; 27. 174. 3; II 11. 52. 7; VII 2. 7. 4; ср.: Hägg. 2006. P. 231-235). В разных контекстах К. А. говорил как о Силе Бога в единственном числе (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 10. 103. 1; 12. 120. 4; Strom. II 2. 5. 4-5; V 12. 82. 1-2), так и о силах Бога во множественном числе (значительно реже; см.: Protrept. 11. 112. 1; Paed. I 8. 74. 1; Strom. IV 25. 156. 1-2; V 12. 80. 3; VII 2. 5. 5). В 1-м случае под Силой подразумевается Божественный Логос; на языке христ. триадологии различению между Богом и Его Силой соответствует различение между Отцом и Его Сыном. Во 2-м случае речь идет о всем многообразии творческой и промыслительной активности Бога; так, в «Увещевании к язычникам» К. А. перечисляет «святые силы», которыми Бог наполнил весь мир: «творение (δημιουργία), спасение (σωτηρία), благодеяние (εὐεργεσία), законодательство (νομοθεσία), пророчество (προφητεία), учение (διδασκαλία)» (Protrept. 11. 112. 1). Т. о., силы Бога - это все божественные действия в их взаимосвязи. В использовании понятия «сила» для описания отношения Бога к миру К. А. следовал Филону Александрийскому, однако учение К. А. о Силе и силах не во всем совпадает с учением Филона (подробное сопоставление см.: Runia. 2004). Наиболее важным отличием является отсутствие у К. А. представления о 2 высших силах, происходящих от Логоса, которые Филон называет «творческой» и «правящей», утверждая, что к 1-й относится библейское имя Бог, а ко 2-й - Господь, а также что 1-я является «благодетельной», а 2-я - «законодательной» (см.: Philo. De vita Mos. II 99; Idem. Quaest. in Exod. 68; ср. упоминание этих сил у К. А.: Clem. Alex. Protrept. 11. 112. 1). Неоднократно затрагивая в связи с полемикой с гностиками вопрос о соотношении в Боге творческой и правящей деятельностей, являющихся началами милости и справедливости, К. А. подчеркивал, что эти силы суть свойства одного Бога, и возводил их к одной Силе, т. е. к Логосу и действующему в единстве с Ним Отцу, избегая любого разделения в Боге на неск. действующих субъектов: «Он благ и справедлив, истинный Бог, Он есть всё, и всё есть Он, ибо Он Бог, единственный Бог» (Clem. Alex. Paed. I 9. 88. 1; ср.: Ibid. 8. 74. 1; 9. 75. 1). Вместе с тем К. А. соглашался с Филоном в том, что благость Бога является первичным свойством, а справедливость - вторичным, т. к. благость абсолютна, а справедливость есть отношение к чему-либо. Именно в этом смысле К. А. писал в «Педагоге», что «Бог, до того как стал Творцом, был благим и был Богом, поэтому и изволил Он стать Творцом и Отцом» (Ibid. 9. 88. 2); т. о., благость Отца как абсолютное и природное Божественное свойство логически предшествует всем относительным свойствам, к-рые в их высшей форме задаются отношением Отца к Сыну (ср.: Сагарда. 2004. Р. 431). По справедливому замечанию Руниа, о свойственной К. А. в отличие от Филона тенденции сводить все силы к единой Силе красноречиво свидетельствует намеренная замена К. А. сил Филона на одну Силу в контексте истолкования Исх 33. 13 (по LXX), предлагаемого К. А. с опорой на текст Филона (см.: Clem. Alex. Strom. II 2. 5. 4; Philo. De poster. Cain. 14; ср.: Runia. 2004. P. 263-266). Поскольку трансцендентный Бог (Отец) действует в мире исключительно через Силу (Сына), все силы и действия Бога соединяются в единой Силе как в едином Деятеле (см.: Clem. Alex. Strom. IV 25. 156. 1-2). При этом как объекты познания силы и Сила различны: если силы постижимы естественным разумом, возвышающимся от наблюдаемых следствий к умосозерцаемым причинам явлений, то Сила познаваема лишь настолько, насколько Она Сама являет Себя. Воплотившись и став доступным чувствам, Сын явил Отца и стал Его Ликом (πρόσωπον; Ibid. V 6. 34. 1); Сына можно именовать премудростью, знанием, истиной и т. д., поскольку после воплощения Он стал познаваем и в Себе Самом открыл знание об Отце (Ibid. IV. 25. 156. 1). Т. о., учение К. А. о свойствах Бога тождественно учению о свойствах Логоса, причем как в Его вечном бытии с Отцом, так и в воплощении.
Триадология
К. А., как и др. раннехрист. писатели, не предлагал терминологически строгого и последовательного изложения учения о Св. Троице. Вместе с тем традиц. церковное представление о том, что Бог есть Св. Троица, было отражено в его сочинениях (общий обзор см.: Lebreton. 1947; Ziebritzki. 1994. S. 124-126; ср. также: Болотов. 1879). По мнению Ж. Лебретона, источником этого представления для К. А. могла служить помимо НЗ церковная крещальная формула, однако для II в. сведений о практике ее использования в Александрийской Церкви и о ее содержании нет (Lebreton. 1947. P. 61-62). Важное косвенное свидетельство, однако, представлено в «Извлечениях из сочинений Феодота...», где К. А., излагая учение гностиков о таинстве Крещения, дважды ссылается на используемую ими крещальную формулу: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Clem. Alex. Exc. Theod. 76. 3-4; 80. 3); при этом в 1-м случае приводится обосновывающая цитата из Евангелия от Матфея (Мф 28. 19; в др. сочинениях К. А. это место не цитируется), а во 2-м случае К. А. прибавляет, что, согласно гностикам, крещение во имя Св. Троицы освобождает человека от власти «троицы тления» (ἐν φθορᾷ τριάς; комментарий см.: Orbe. 1968).
Встречающиеся у К. А. упоминания Лиц Св. Троицы в общей формуле не сопровождаются подробными рассуждениями и комментариями касательно внутритроичных отношений и по богословскому содержанию не выходят за пределы библейского языка и общих раннехрист. представлений, прямо основывавшихся на триадологических местах НЗ. Так, в соч. «Кто из богатых спасется?» К. А. в контексте рассуждения о духовном сокровище, которым обладают христиане, отмечает, что оно защищено «силой Бога Отца (θεοῦ πατρός), кровью Бога Сына (θεοῦ παιδός) и росой Святого Духа» (Clem. Alex. Quis div. salv. 34. 1). В завершающей это же сочинение доксологии К. А. говорит о «благом небесном Отце», «Сыне Иисусе Христе, Господе живых и мертвых» и «Святом Духе» (Ibid. 42. 19-20). В «Педагоге» К. А. упоминает, что христиане возносят непрестанную хвалу «Единому Отцу и [Его] Сыну (τῷ μόνῳ πατρ κα υἱῷ), Сыну и Отцу, Сыну как Педагогу и как Учителю, с Духом Святым» (Paed. III 12. 101. 2). В «Избранных местах из пророческих писаний» знание о Св. Троице, «Отце, и Сыне, и Святом Духе», К. А. относил наряду со знанием о человеческой душе к «предметам полезным и необходимым для спасения» (Eclog. proph. 29. 1). В «Строматах» К. А., подобно мч. Иустину Философу (Iust. Martyr. I Apol. 60) и Афинагору (Athenag. Legat. pro christian. 23-24), проводил параллель между христ. учением о Св. Троице и отрывком из 2-го письма Платона, где говорится: «Все тяготеет к царю всего, все совершается ради него, и он причина всего прекрасного; второе же тяготеет ко второму, а третье - к третьему» (Plat. Ep. 2. 312e). Согласно К. А., эти слова Платона должны пониматься как «указание на Святую Троицу (τὴν ἁγίαν τριάδα), так как третий - это Святой Дух, а второй - Сын, через Которого все начало быть по воле Отца» (Clem. Alex. Strom. V 14. 103. 1; ср.: Ин 1. 3). Слово τριάς для обозначения трех Божественных Лиц К. А. использовал лишь в этом отрывке; оно не является у него специальным триадологическим термином (так, «святой троицей» К. А. называл 3 высшие христ. добродетели: веру, надежду и любовь; см.: Ibid. IV 7. 54. 1; ср. также: Clem. Alex. Strom. III 10. 69. 1; VII 7. 40. 4). Хотя К. А. не выражал эксплицитно правосл. учения о единстве сущности и различии Ипостасей Св. Троицы, в его богословских рассуждениях (в отличие, напр., от богословия Оригена) не содержится к.-л. идей, к-рые бы противоречили этому догматическому положению. Наиболее близки к классической формулировке правосл. учения о различии Божественных Ипостасей слова К. А. в «Педагоге»: «Один Отец всего, один и Логос всего, и Дух Святой один и тот же повсюду, и одна единственная Дева, становящаяся Матерью, ибо так я хочу назвать Церковь» (Clem. Alex. Paed. I 6. 42. 1; вопреки мнению А. И. Сидорова, К. А. говорит здесь о единой девственной Матери лишь в экклезиологическом смысле и не подразумевает Пресв. Богородицу; ср.: Сидоров. 1998. С. 114-115). Упоминание К. А. наряду с одним Отцом, одним Сыном и одним Св. Духом одной Церкви соответствует Никео-Константинопольскому Символу веры, где также подчеркивается наряду с единством Божественных Лиц единство Церкви. Убежденность К. А. в сущностном единстве Лиц Св. Троицы ярче всего проявилась в его утверждении, что Логос не является «словом произнесенным» (λόγος προφορικός); К. А. избегал употреблять это выражение, ранее широко использовавшееся христ. апологетами, поскольку произнесенность предполагает сущностную и бытийную отделенность произнесенного от произнесшего, тогда как Сын, происходя от Отца, при этом никогда не отделяется от Него; Он есть «Премудрость и надежнейшая Благость Бога, Сила всемогущая и поистине Божественная (τῷ ὄντι θεία), Воля Вседержителя» (Clem. Alex. Strom. V 1. 6. 3). Т. о., хотя К. А. упоминал все три Лица Св. Троицы, преимущественное внимание он уделял рассмотрению отношения между Отцом и Сыном, к-рое он понимал как отношение между Богом и Божественным Логосом; о свойствах и действиях Св. Духа К. А. говорил намного реже.
Учение о Логосе (Сыне Божием)
I. Логос как Сын Отца. Как и в учении о Боге, в учении о Логосе К. А. совмещал библейское богословие с понятийной системой платонизма. Опираясь на свидетельства Свящ. Писания, и прежде всего на Пролог Евангелия от Иоанна (Ин 1. 1-18), К. А. отождествлял Логос с Сыном Божиим, Лицом Св. Троицы. Говоря о Логосе как о Сыне, К. А. подчеркивал теснейшую связь между Отцом и Сыном, обозначая Их единым именем Бог. Так, в «Педагоге» К. А. утверждал: «Они вместе есть Единое - Бог» (ἓν γὰρ ἄμφω, ὁ θεός; Clem. Alex. Paed. I 8. 62. 4) - и называл Сына «единородным» (μονογενὴς λόγος; Ibid. 3. 8. 2). Согласно К. А., принимая верой откровение о Сыне, данное Им Самим, христиане принимают и откровение об Отце: «...чтобы верить в Сына, надо знать Отца, с Которым Сын; и наоборот, чтобы познать Отца, нужно верить Сыну», поскольку «Сын есть истинный Учитель, открывающий Отца» (Strom. V 1. 1. 2-4). К. А. признавал Сына равным Отцу по божеству, утверждая, что Сын есть «Божественный Логос, несомненно истинный Бог, равный (ἐξισωθείς) Владыке всего, ибо Он - Сын Его» (Protrept. 10. 110. 1). Пребывающий «в недре Отчем» (Ин 1. 18) Логос - это «Бог в Боге» (Θεὸς ἐν Θεῷ); «неразделимый, неделимый и единый Бог» (ἀδιάστατος, ἀμέριστος, εἷς Θεός; Exc. Theod. 8. 1).
Не обсуждая специально способ происхождения Сына от Отца, К. А. обозначал его как с помощью понятия «рождение», так и, значительно реже, с помощью понятия «творение». В последнем случае К. А. использовал глагол κτίζω и производные от него слова, к-рые в языке ВЗ (LXX; см., напр.: Быт 14. 19, 22; Ис 45. 8; Ам 4. 13; Сир 33. 10) и НЗ (см., напр.: Рим 1. 25; Еф 3. 9; Кол 1. 15-16), а также у самого К. А. в др. контекстах (см., напр.: Clem. Alex. Strom. I 15. 71. 1; IV 12. 85. 3; 13. 89. 4; 23. 148. 2; VII 3. 13. 3) употреблялись для обозначения волевого сотворения чего-то нового, не бывшего прежде; т. о., присутствие этого понятия в учении К. А. о Сыне является крайне проблематичным с т. зр. традиц. правосл. триадологии. Свт. Фотий, патриарх К-польский, оценивая содержание «Очерков», отмечал, что в них К. А. «низводит Сына до творения» (τὸν Υἱὸν εἰς κτίσμα κατάγει - Phot. Bibl. 109). Однако в сохранившихся сочинениях К. А. слово κτίσμα по отношению к Сыну не употребляется ни разу; выражение ап. Павла «новое творение» (καινὴ κτίσις - см.: 2 Кор 5. 17; Гал 6. 15) как обозначение Сына К. А. использует лишь в метафорическом смысле (см.: Clem. Alex. Quis div. salv. 12. 1; Protrept. 11. 114. 3). Наиболее близкой к учению о тварности Сына является экзегетическая интерпретация К. А. в «Строматах» места из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, где говорится, что «Премудрость была сотворена прежде всего» (Сир 1. 4; по LXX). Согласно К. А., это место содержит учение о «первосотворенной Богом Премудрости» (τῆς σοφίας τῆς πρωτοκτίστου τῷ θεῷ - Clem. Alex. Strom. V 14. 89. 4); при этом Премудрость для него тождественна Сыну (Логосу). Однако, комментируя слова о Премудрости Божией из Книги премудрости Соломона: «Господь сотворил Меня как начало путей Своих для дел Своих» (Прем 8. 22; по LXX), К. А. утверждал: «Соломон говорит, что Премудрость была рождена (γεγονέναι) Вседержителем прежде неба, земли и всего сущего» (Clem. Alex. Strom. VI 16. 138. 4); т. о., в этом контексте К. А. отождествил библейское «творение» с «рождением». Говоря о Сыне как о «Начале», в Котором Бог сотворил все сущее (ср.: Быт 1. 1), К. А. называл его «перворожденным Сыном» (τὸν πρωτόγονον υἱόν); однако далее он с одобрением цитировал апокриф «Проповедь Петра», в котором утверждается, что Бог «соделал Начало всего» (ἀρχὴν τῶν ἁπάντων ἐποίησεν - Clem. Alex. Strom. VI 7. 58. 1). При этом, рассуждая о соотношении Бога и творения (Ibidem), К. А. назвал Отца «нерожденное» (τὸ ἀγέννητον), Сына - «перворожденное» (τὸ προγεννηθέν), а творение - «возникшее» (τὰ γενητά); употребляемое им слово προγεννηθέν точно соответствует слову γεννηθείς, использованному для обозначения рождения Сына в Никео-Константинопольском Символе веры. Cловоупотребление К. А. в целом свидетельствует о том, что он иногда смешивал понятия «творение» и «рождение»; при этом присущая рассуждениям К. А. терминологическая и понятийная двусмысленность отчасти восходит к двойственности языка НЗ. Так, ап. Павел утверждал, что Сын есть «перворожденный всякой твари» (πρωτότοκος πάσης κτίσεως - ср.: Кол 1. 15); эти слова могут быть интерпретированы и в смысле «рожденный прежде всякой твари» (традиц. правосл. понимание; ср. интерпретацию этого места в «Извлечениях из сочинений Феодота...», вероятно, отражающую т. зр. К. А.: Clem. Alex. Exc. Theod. 19), и в смысле «рожденный первым из всей твари» (ошибочное арианское понимание; ср. критический разбор арианской позиции свт. Афанасием I Великим, еп. Александрийским: Athanas. Alex. Or. contr. arian. II 63). Хотя К. А., совмещая библейские способы выражения с платоническим представлением о Логосе как Начале всего, действительно называл Логос «сотворенным», говоря о Сыне и творении в одном контексте, он неизменно подчеркивал бытийное и природное различие между Сыном и тварным миром и никогда не рассматривал Сына как часть творения; в этом отношении его позиция ближе к православной, чем к арианской (подробное обоснование этого см.: Pade. 1939. S. 112-137; ср.: Ashwin-Siejkowski. 2010. P. 75-93). Вслед. этого мнение свт. Фотия является односторонним преувеличением, в рамках которого слова К. А. оказываются наделены смыслом, который он сам им не придавал. Даже рассуждая о «творении» Сына Отцом, К. А. подразумевал не создание Отцом чего-то отличного от Себя, но произведение из Себя равного Себе Сына.
В сочинениях К. А. обнаруживается противоречивая трактовка вопроса о времени и причине рождения Сына Отцом. В «Педагоге» К. А. утверждал, что Бог «изволил» (ἠθέλησεν) быть Отцом и «стал Отцом» (γέγονεν πατήρ) в силу присущей Его природе благости (Clem. Alex. Paed. I 9. 88. 2); т. о., К. А. допускал, что происхождение Сына от Отца имеет некое начало и есть волевой акт Отца. Такое мнение было характерно для большинства раннехрист. церковных писателей, однако в никейском правосл. богословии оно было подвергнуто критике свт. Афанасием Великим и признано ошибочным. Вместе с тем в «Строматах» встречаются высказывания, к-рые соответствуют правосл. т. зр., закрепленной в никейском богословии; так, К. А. писал, что Сын есть «первое и предвечное (πρώτη κα πρὸ αἰώνων) Начало всего» (Strom. V 6. 38. 7), «вневременное (ἄχρονον) и безначальное (ἄναρχον) Начало и Начаток [всего] сущего» (Ibid. VII 1. 2. 2). В соч. «Кто из богатых спасется?» К. А. развивал оригинальное учение о происхождении Сына, связывающее рождение Сына с темой Божественной любви. Согласно К. А., поскольку Бог есть Любовь, Отец по любви стал Матерью (γέγονε μήτηρ) и как бы принял женскую природу (ἐθηλύνθη), Сам из Себя родив Сына, чтобы Он явил Отца (Quis div. salv. 37). Этот отрывок может быть понят как указание на то, что любовь, являющаяся вечным внутренним содержанием Божественной внутритроичной жизни, при творении мира начинает проявляться вовне; однако отрывок может свидетельствовать и о том, что Бог рождает Логос перед началом творения, желая явить Свою любовь через полагание иного сперва в Себе, а затем вне Себя. Недвусмысленно о вечном бытии Сына с Отцом говорится в лат. отрывке из «Очерков» в контексте объяснения начальных слов Первого послания Иоанна: «Говоря: «...что было от начала», [апостол] рассуждает о безначальном рождении Сына, всегда существующего вместе с Отцом. «Было» - это слово есть обозначение вечности, не имеющей начала, и указывает оно на Само Слово, то есть на Сына, Который сообразно равенству сущности (secundum aequalitatem substantiae) есть одно с Отцом, вечным и нетленным» (Clem. Alex. Fragm. 24 // Idem. Werke. 19702. Bd. 3. S. 210; ср.: 1 Ин 1. 1). Приводимая формулировка строго православна; однако нельзя исключать, что она является позднейшим исправлением переводчиком оригинального суждения К. А., к-рое было менее определенным.
Говоря о свойствах Сына, К. А. утверждал, что Его природа «есть блаженнейшая и святейшая, наиболее господственная, наиболее правительствующая, наиболее царственная, наиболее благодетельная», а также «наиболее близкая к единственному Вседержителю» (Clem. Alex. Strom. VII 2. 5. 3). Хотя нек-рые исследователи видели в этих словах различение природы Сына и природы Отца и тем самым косвенное отрицание Их единосущия, в действительности К. А. говорит здесь скорее о природе как о способе существования и подчеркивает особую близость Сына к Отцу, несопоставимую с близостью тварных существ. Однако в рассуждениях о свойствах Сына К. А. отмечал Его подчиненность Отцу как по происхождению, так и по деятельности; в его представлениях об отношении Сына к Отцу присутствуют отчетливые следы субординационизма. Так, если Отца К. А. характеризовал абсолютным эпитетом «древнейшее» (τὸ πρέσβιστον), то Сына он называл «наиболее древнее по происхождению среди умопостигаемого» (ἐν τοῖς νοητοῖς τὸ πρεσβύτατον ἐν γενέσει), тем самым возвышая Сына над всем творением, но при этом показывая Его зависимость от Отца по происхождению. Однако по отношению к тварному миру, согласно К. А., власть Отца и власть Сына тождественны; Сын рожден прежде всего остального, и еще до сотворения мира Он - советник Отца (Ibid. VII 2. 7. 4). Сын обладает наивысшим превосходством по отношению ко всем остальным существам, будучи управляющим и упорядочивающим их согласно воле Отца: «Он - всецело Разум, всецело Свет, всецело отеческое Око; Он все видит, все слышит, все знает» (Ibid. 2. 5. 5; чтение «отеческое Око» соответствует рукописи; в издании Штелина эмендация: «всецело отеческий Свет, всецело Око...»; см.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 6). Одним из важнейших имен Сына у К. А. является заимствованное из Свящ. Писания и сочинений Филона Александрийского имя Силы. Как Сила Отца (см.: Strom. V 1. 6. 3; VI 6. 47. 3; VII 2. 7. 4; Protrept. 12. 120. 4) Сын обладает всемогуществом; Он исполняет в отношении всей вселенной волю Отца (Strom. 7 2. 9. 1-2), поэтому и Сам именуется Волей Отца (Protrept. 12. 120. 4). Также К. А. называл Сына Энергией Отца, подчеркивая этим промыслительную сторону Его деятельности (Strom. VII 2. 7. 7; ср.: Exc. Theod. 8. 3). Как и Отец, Сын всеведущ и всемогущ, Он находится везде и нигде (Strom. VII 2. 5. 5). Выражая с помощью различных свойств Сына представление о том, что Логос как Сын является посредником между трансцендентным Отцом и тварным миром, К. А. в значительной мере опирался на учение о Логосе Филона Александрийского. Однако у Филона, допускавшего существование в Боге лишь одного Лица, т. е. Лица Отца, Логос является объединяющим условным обозначением свойств и деятельностей, присущих единому истинному Богу; хотя Филон иногда называл Логос «богом» (θεός без артикля, что подчеркивает условность употребления имени; см.: Philo. Somn. I 228-230), «вторым богом» (Idem. Quaest. in Gen. II 62), «первородным сыном» (Idem. De agr. 51), он не видел в Логосе личного Бога, равного Отцу. Напротив, для учения К. А. о Сыне, несмотря на отдельные субординационистские элементы (их анализ см.: Pade. 1939. S. 148-160), в целом характерно подчеркнутое внимание к деятельности Логоса как Божественного Лица, особенно ярко выражаемое в контексте учения о Логосе как о Педагоге и Учителе всех людей. Во многом такой переход от Логоса как принципа к Логосу как Лицу стал возможен благодаря использованию К. А. представлений о Логосе, свойственных Евангелию от Иоанна, и вследствие постоянного соотнесения учения о Логосе в Его Божественном бытии с учением о Логосе воплотившемся - Иисусе Христе (ср.: Сидоров. 1998. С. 116-117; Сагарда. 2004. С. 432).
II. Философская интерпретация Логоса как Монады. Для философского выражения учения об Отце и Логосе К. А. пользовался языком платонической и неопифагорейской монадологии. Согласно К. А., приложение понятия «единство» к Богу возможно лишь в условном смысле: к трансцендентной сущности Бога (Отца), не выразимой человеческими словами, понятие «единство» неприменимо. Однако сущность Отца становится выразимой в той мере, в какой она открывается через Сына. Указывая на эту двойственность, К. А. в «Педагоге» утверждал, что Бог есть «и Единое, и за пределами Единого, и выше, чем Сама Монада» (ἓν ὁ θεὸς κα ἐπέκεινα τοῦ νὸς κα ὑπὲρ αὐτὴν μονάδα - Clem. Alex. Paed. I 8. 71. 2). «За пределами Единого» здесь используется как обозначение трансцендентной сущности Бога, «Единое» - как обозначение Отца, «Монада» - как обозначение Сына. По мнению многих исследователей, используемый К. А. язык восходит к понятийной системе диалога «Парменид» Платона, к-рую К. А. воспринял от средних платоников (см.: Mortley. 1973. Р. 70-73; Hägg. 2006. Р. 214-216; Шуфрин. 2006). Подтверждением этого служит рассуждение К. А. о Логосе в «Строматах», где говорится, что «Сын не является ни чем-то безусловно единым как единое (ἓν ὡς ἕν), ни чем-то многим как части (πολλὰ ὡς μέρη), но есть единое как соединение всего (ὡς πάντα ἕν); и из Него всё, ибо Он есть круг всех сил, собирающихся и соединяющихся в единое» (Clem. Alex. Strom. IV 25. 156. 2). Тройственное деление К. А. находит соответствие в гипотезах диалога «Парменид»: единое как единое рассматривается у Платона в рамках 1-й гипотезы (см.: Plat. Parm. 137c - 142a); а способы отношения единого к иному и ко многому - в рамках 2, 3 и 4-й гипотез (см.: Ibid. 142b - 160b). Вместе с тем значение влияния платонической терминологии на К. А. не следует преувеличивать; его учение о соотношении единого и многого в отличие от диалектических рассуждений Платона имеет достаточно простой и прозрачный логический характер (ср.: Runia. 2010. P. 185-187). Из слов К. А. следует, что характер единства Отца и Сына различен: Отец есть нечто безусловно единое и не может быть соотнесен ни с какой множественностью. Отец как единое производит тождественное Себе единое, т. е. единственного Сына, Который есть Монада, т. е. единство, допускающее множественность (попытку дополнительно соотнести учение К. А. о Едином и Монаде с 2 смыслами аристотелевского понятия «беспредельность» см.: Choufrine. 2002. P. 160-177; Он же. 2006). Сын, оставаясь в силу сущностной тождественности Отцу единым, полагает вовне многое, т. е. тварный мир в его невидимой (силы) и видимой (чувственный мир) частях. По отношению к миру Сын является соединяющим Началом, приводящим многообразие к гармонии; при этом полагаемое Им многое не делит Его на части. Представление о Сыне как об объединяющей все Монаде, согласно К. А., имеет важное сотериологическое значение. Воплощенный Сын, Иисус Христос, в силу Его монадной природы становится центром единства для всех христиан. По словам К. А., «веровать в Логос и посредством Логоса означает стать монадным (μοναδικόν), то есть неразделимо соединенным в Нем» (Clem. Alex. Strom. IV 25. 157. 2). В «Увещевании к язычникам» К. А., описывая единение верных с Сыном и в Сыне, риторически призывал присоединиться к этому единству: «Будучи многими, поспешим соединиться в единой любви сообразно единению монадной сущности (κατὰ τὴν τῆς μοναδικῆς οὐσίας ἕνωσιν). Также и делая добро, устремимся к единению, чтобы найти благую Монаду. Соединение многих, производя из разнозвучия и рассеяния божественную гармонию, становится одним созвучием, следует за одним Предводителем хора и Учителем - Логосом и достигает покоя в Самой Истине, говоря: Авва, Отче!» (Protrept. 9. 88. 3; ср.: Рим 8. 15; Гал 4. 6). Это рассуждение К. А. имеет параллели в НЗ, перекликаясь, в частности, со словами ап. Павла, соотносящего устроение человеческого тела и мистического тела Христова: «...eсли бы все (τὰ πάντα) были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много (πολλὰ), а тело одно (ἓν)... И вы - тело Христово, а порознь - члены» (1 Кор 12. 19-20, 27). Т. о., используя философские понятия «единое» и «монада» применительно к Сыну, К. А. понимал их не только в традиц. платоническом, но и в библейском смысле. Подтверждением этого служат слова К. А. в «Педагоге»: «Всё для Единого, в Котором всё, через Которого все едино (τὰ πάντα ἕν), через Которого вечность, члены Которого все [мы]» (Clem. Alex. Paed. III 12. 101. 2). Помещая эти слова непосредственно после тринитарной доксологии, К. А. подчеркивал, что основанием всякого единства является единство сущности Бога, Который через Иисуса Христа делает многих единым в монадном единстве Сына.
III. Единство Логоса. Обсуждая вопрос о том, каким образом К. А. соотносил рассуждения о Логосе как об Уме, содержащем идеи всего сотворенного, как о Творце, создавшем по воле Отца мир, как о Промыслителе, правящем вселенной, как о Спасителе, воплотившемся и ставшем человеком, мн. исследователи приходили к выводу, что он был сторонником теории неск. стадий существования Логоса (см.: Casey. 1923; Wolfson. 1956. P. 204-217; Lilla. 1971. P. 199-212; Морескини. 2011. С. 147-149; общий критический обзор вопроса см.: Ziebritzki. 1994. S. 100-119; Edwards. 2000; Hägg. 2006. P. 185-194; Kindiy. 2008. P. 50-82; Jourdan. 2010). Классический вариант этой теории представлен в сочинениях ряда раннехрист. апологетов, к-рые полагали, что существующий в Отце внутренний Логос (λόγος ἐνδιάθετος) для творения мира становится произнесенным Логосом (λόγος προφορικός), т. е. обретает собственное ипостасное бытие; в наиболее явной форме теория «двух стадий» присутствует у Феофила, еп. Антиохийского (см.: Theoph. Antioch. Ad Autol. II 10, 22). У К. А. не встречается учения, выраженного в таких терминах; он отвергал правомерность использования понятия «слово произнесенное» по отношению к Божественному Логосу и настаивал на неизменном характере бытия Сына с Отцом без полного отождествления или разделения. При этом, однако, учение К. А. о том, каким образом деятельность Логоса как Создателя и Управителя мира, а также событие Боговоплощения соотносятся с вечным бытием Логоса с Отцом, может быть интерпретировано различным образом. Исследователи, считавшие, что у К. А. присутствует собственная теория 2 стадий существования Логоса, не во всем похожая на теории предшествующих христ. авторов, опирались среди прочего на важное свидетельство свт. Фотия, патриарха К-польского, к-рый критиковал «ошибочное» учение К. А. о Логосе. По словам свт. Фотия, в «Очерках» К. А. рассуждал «о двух логосах Отца, из которых людям явился лишь более низкий, а может быть, не явился и этот» (Phot. Bibl. 109). Для подтверждения этой оценки свт. Фотий приводил цитату из «Очерков» К. А.: «И Сын называется Логосом, по соименности с отеческим Логосом, однако этот [отеческий Логос] - это не [Логос], Который стал плотью. И не отчий Логос, но некая Сила Божия, как бы излияние Его Логоса, становясь умом, проникает в сердца людей» (Ibidem; обзор интерпретаций см.: Jourdan. 2010. P. 144-152). Как показали Цан и Вольфсон, свт. Фотий понял приведенный им отрывок некорректно, неточно интерпретировав основную мысль К. А. в 1-й фразе: К. А. отрицал в ней не то, что Сын как Логос стал человеком, а то, что ставший человеком Логос - это отеческий Логос. Во 2-й фразе соответственно отрицается, что отеческий Логос - это тот Логос, Который благодатно воздействует на людей (см.: Zahn. 1884. S. 142-147; Wolfson. 1956. P. 211-212). Т. о., отрывок является не отрицанием Воплощения Сына, как это показалось свт. Фотию, и не выражением учения о множественности логосов, как думают нек-рые совр. ученые, но объяснением различных смыслов понятия «логос», возможных в триадологическом контексте. В цитате К. А. различаются: 1) Логос Отца, т. е. свойство Отца в Его трансцендентном ипостасном бытии, «разумность» как essentialia (общее свойство Божественной природы); этот Логос не тождествен ипостасному Логосу как Лицу Св. Троицы, но есть основание Его бытия в сущности Бога; 2) Логос как Божественное Лицо, т. е. Сын, Который стал плотью; 3) Логос как «излияние Бога» (ср.: Прем 7. 25), проникающее в сердца людей, т. е. Логос в Его существовании во многом, Который у К. А. иногда отождествлялся со Св. Духом, понимаемым как «истечение Логоса» (ср. схему, предложенную К. Маркшисом: Markschies. 2000. S. 87; о соотношении Св. Духа и человеческого ума см.: Clem. Alex. Strom. VI 17. 154. 4; 155. 4). Т. о., речь у К. А. идет о тройной омонимии слова «логос», причем в каждом случае этим именем обозначается одно из Лиц Св. Троицы (см.: Markschies. 2000. S. 86-88). Указывая на эту омонимию, К. А. стремился объяснить, что причастность человека Логосу не предполагает сущностного соединения человека с трансцендентным Отцом, но есть причастность Логосу как Сыну, возможная благодаря Его воплощению и «логосному» действию Св. Духа. Вероятно, проблема омонимии была осознана К. А. уже после создания «Стромат» и приобрела актуальность в контексте полемики с некоторыми идеями гностиков, т. к., по справедливому замечанию Маркшиса, в «Увещевании к язычникам», «Педагоге» и «Строматах» К. А. не отличал по значению понятие «отеческий Логос» от понятия «Логос как Сын» (см.: Clem. Alex. Protrept. 8. 80. 2; Paed. I 2. 6. 1; 9. 84. 1; Strom. VII 2. 5. 6; ср.: Markschies. 2000. S. 90).
Справедливо указывая, что в приводимой свт. Фотием цитате речь идет о различных Божественных действиях, Вольфсон и Лилла, однако, ошибочно предполагали, что К. А. рассуждает о «становлении» Логоса, и связывали цитату с теорией неск. стадий существования Логоса или с представлением о неск. «логосах». Согласно Вольфсону, у К. А. различаются Логос как мысль Отца, т. е. «отеческий Логос», и получивший индивидуальное бытие Логос, произведенный Отцом; именно этот Логос воплотился и просвещает ум верующих (Wolfson. 1956. P. 211). Лилла выделял 3 стадии (stage) существования Логоса: 1) Логос в Его тождестве с Умом Бога, Который есть «место идей» (ср.: Clem. Alex. Strom. IV 25. 155. 2; V 3. 16. 3; 11. 73. 3); 2) Логос как «происшедший» от Бога для творения мира (ср.: Ibid. V 3. 16. 5), обретший ипостасное бытие, ставший Творцом как умопостигаемого мира (т. е. идей), так и чувственного космоса; Сила, являющаяся «единством всех сил» (ср.: Ibid. IV 25. 156. 1-2); 3) Логос как имманентное миру Начало, Мировая Душа, принцип гармоничности и мировой закон (ср.: Ibid. VII 2. 5. 4; Protrept. 1. 5. 2-3), управляющий всем мирозданием (см.: Lilla. 1971. Р. 201-212; критический анализ подхода Лиллы см.: Edwards. 2000). Хотя предлагаемое Лиллой описание каждой из «стадий» по отдельности является в целом корректным, концепция «стадий», предполагающая некое становление Логоса, будь то временное или логическое, оказывается спорной и проблематичной. Рассуждая о Логосе в различных контекстах, К. А. различал внутреннюю жизнь единого Бога и последовательность Божественного откровения. В действительности выделенные Лиллой 3 стадии не являются этапами становления Логоса; они могут быть поняты как 2 аспекта Его вечного бытия (ср.: Ziebritzki. 1994. S. 101-117). Рассматриваемый в 1-м аспекте, т. е. с т. зр. Его отношения к сущности Бога, Логос есть произведение Ума Отца (Который, согласно отрывку из «Очерков», по омонимии также может именоваться Логосом), т. е. ипостасное существование природной разумности Бога (здесь К. А. выражает вполне правосл. учение; ср. рассуждение о сущностных именах и свойствах Бога у прп. Иоанна Дамаскина: Ioan. Damasc. De fide orth. I 12). При этом Отец как Ум не мыслит идеи в их различии, будучи безусловно единым; единственной Мыслью, или Идеей, Ума Бога (ср.: Clem. Alex. Strom. V 3. 16. 3), т. е. разумной сущности Отца, является Сам Логос как Сын Отца; именно в этом смысле К. А. называл Ло-гос «Сыном Ума» (υἱὸς τοῦ νοῦ -Protrept. 10. 98. 3). «Местом идей» непосредственно является Логос, а опосредованно - Отец как Ум, мыслящий Логос, т. е. Бог в единстве разумной Божественной сущности. В силу единства Божественной сущности Логос также может именоваться Умом, происходящим от Ума (Отца); так, именно к Логосу как к Уму относятся утверждение К. А. о том, что «Ум есть место идей, и Ум есть Бог» (Strom. IV 25. 155. 2). Рассматриваемый во 2-м аспекте, т. е. в его отношении к творению, Логос есть «происшедшая» от Отца причина всего и Управитель всего, ипостасный Образ Отца, однако происхождение в данном случае указывает не на начало Его безначального ипостасного бытия, но на начало «проявления» Сына как Единого в полагаемом Им тварном многом. При этом, вопреки мнению Лиллы, К. А. не считал, что участие в творении как-либо меняет природу Логоса и нигде прямо не утверждал, что Логос обретает ипостасное бытие лишь в связи с необходимостью творить мир. Даже наиболее сильное выражение К. А., «происшедший Логос причина творения» (προελθὼν ὁ λόγος δημιουργίας αἴτιος - Ibid. V 3. 16. 5), не требует безусловного соотнесения происхождения Логоса с творением, но указывает лишь на то, что непосредственным Творцом является Логос как Божественное Лицо, а не как сущностный Ум Отца.
Особая трактовка единства и двойственности Логоса представлена в «Извлечениях из сочинений Феодота...» (см.: Exc. Theod. 8, 19). Здесь различаются состояние Логоса «в тождественности» (ἐν ταὐτότητι) и Его ипостасное бытие. В 1-м случае, по-видимому, речь идет о Логосе как Мысли Бога, всегда пребывающей в единстве сущности с Отцом; поэтому утверждается, что «по сущности» Логос не должен именоваться Сыном. Однако наряду с этим единством для бытия Логоса характерно «ограничение» (περιγραφή), т. е. ипостасное существование Сына. Это ограничение, существующее «в начале», т. е. всегда, есть основание для последующих ограничений Логоса: творения и воплощения. На все эти ограничения указывают слова Евангелия от Иоанна: «Слово стало плотью» (Ин 1. 14): Логос «стал плотью», т. е. как Ипостась обрел собственную форму существования «в начале», т. е. в вечности, а затем «стал плотью», т. е. вошел в физический мир, во времени. В этом смысле Логос как Сын является «порождением» Логоса как сущего «в тождественности», т. е. сыновство есть нечто логически зависящее от сущностного бытия Логоса в единстве с Отцом. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что эта интерпретация принадлежит К. А., она непротиворечиво согласуется с его рассуждениями в «Строматах»; возможно, в рамках полемики с гностицизмом К. А. хотел выразить правосл. учение в близкой гностикам терминологии, которая с т. зр. постникейской христ. триадологии выглядит не вполне удачной (ср.: Casey. 1934. P. 27-28; Festugière. 1949. P. 202; общий анализ учения К. А. о Логосе в «Извлечениях из сочинений Феодота...» см.: Daniélou. 1961. P. 334-344; Он же. 2005. С. 7-17; Edwards. 2000. P. 173-176).
Т. о., К. А. различал не разные стадии существования единого и самотождественного в Божественном бытии Логоса как Сына, а разные способы употребления понятий «логос» и «ум», которые могут быть не только именами Ипостасей Св. Троицы, но и обозначениями общих свойств сущности Бога. Хотя вследствие несистематического представления и отсутствия подробной теоретической разработки концепция Логоса К. А. оценивалась некоторыми совр. исследователями как малопонятная и противоречивая (см., напр.: Ziebritzki. 1994. S. 119), в действительности она является творческим развитием учения раннехрист. апологетов и значимым шагом в верном направлении на пути к правосл. никейской триадологии.
Пневматология
Наиболее часто Св. Дух упоминается в сочинениях К. А. в 3 контекстах: 1) как источник пророческого вдохновения в ВЗ (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 8. 78. 1; 79. 2; 82. 1); 2) как благодатная сила, помогающая христианам на пути к совершенству (см., напр.: Clem. Alex. Strom. IV 16. 163. 2); 3) как духовное присутствие Бога в душе христианина, к-рый есть «храм Духа Святого» (см., напр.: Ibid. VI 15. 120. 2; VII 11. 64. 7; ср. также: Ibid. V 13. 88. 2-4; это представление восходит к НЗ; ср.: 1 Кор 6. 19). В «Увещевании к язычникам» К. А. говорил о содействии Св. Духа в творческой деятельности Логоса, отмечая, что «Логос Бога... привел в гармонию вселенную Святым Духом (ἁγίῳ πνεύματι ἁρμοσάμενος)» (Protrept. 1. 5. 3). Поскольку все эти действия Св. Духа К. А. в др. случаях называл также действиями Логоса, разработанное пневматологическое учение, в рамках к-рого рассматривались бы особые свойства и действия Св. Духа, у него отсутствует; не встречается у К. А. и утверждений о непосредственном исхождении Св. Духа от Отца. Если Отец и Сын одинаково именуются у К. А. Богом, то по отношению к Св. Духу К. А. этого имени не использовал (Ziebritzki. 1994. S. 120; общий обзор пневматологии К. А. в контексте раннехристианской пневматологии в целом см.: Martin. 1971).
Не отрицая прямо ипостасного бытия Св. Духа, К. А., подобно мн. раннехрист. писателям, при упоминании о Нем вне тринитарных формул нередко отождествлял его с Логосом и, возможно, рассматривал Св. Дух как высшее действие Логоса и способ Его присутствия в тварном мире (наиболее показательным в этом отношении является рассуждение К. А. в «Педагоге»: Clem. Alex. Paed. I 6. 43. 2; ср.: Ziebritzki. 1994. S. 120-121; анализ всех смыслов употребления понятия «дух» у К. А. и их взаимосвязи см.: Frangoulis. 1936; Ladaria. 1980). Нек-рые исследователи, однако, считают, что К. А. был сторонником концепции «ангельской пневматологии» и отождествлял Св. Дух не с Логосом, а с 7 высшими ангельскими силами, к-рых он называл «протоктистами» (πρωτόκτιστοι), т. е. «сотворенными первыми» (подробную аргументацию в пользу этой т. зр. см.: Oeyen. 1965; Bucur. 2009). Основания для такого вывода заимствуются не из основных сочинений К. А., где можно обнаружить лишь смутные намеки на такую концепцию (см., напр.: Clem. Alex. Strom. V 6. 35. 1; VI 7. 57. 5; VII 2. 9. 2-4; Paed. I 6. 28. 1), а из «Извлечений из сочинений Феодота...», «Избранных мест из пророческих писаний» и лат. фрагмента «Очерков». В этих сочинениях К. А. утверждал, что протоктисты являются ближайшими к Логосу ангельскими духами, к-рые непрестанно созерцают Его Лицо и передают Его свет нижестоящим духовным существам, т. е. ангелам и душам (см.: Clem. Alex. Exc. Theod. 10, 12, 24; Eclog. proph. 51-52, 57; ср.: Ziebritzki. 1994. S. 121-122). Не упоминая прямо о Св. Духе в рассуждении о протоктистах, К. А. фактически ставит протоктистов на Его место, т. к. они происходят непосредственно от Сына и исполняют те же действия, исполнителем к-рых в Свящ. Писании и христ. лит-ре обычно называется Св. Дух. В лат. отрывке из «Очерков» (см.: Clem. Alex. Fragm. 24 // Idem. Werke. 19702. Bd. 3. S. 211) содержится утверждение, что, как Господь (т. е. Сын) является Утешителем (consolator; комментируя 1 Ин 2. 1, К. А., вероятно, имел в виду также слова Иисуса Христа о «другом Утешителе» (Ин 14. 16); в греч. тексте НЗ в отличие от лат. и рус. переводов в обоих случаях одинаковое слово παράκλητος) и ходатайствует за людей перед Отцом, «так является Утешителем и Тот, Кого Он благоволил послать после Своего Вознесения на небеса»; здесь К. А. явно ссылается на ниспослание Св. Духа (ср.: Ин 14. 26; 16. 7; Деян 1. 4-5, 8; 2. 33). В следующей фразе, однако, К. А. утверждает, что это высказывание говорит о «первоначальных и сотворенных первыми силах» (primitivae virtutes ac primo creatae; лат. аналог греч. понятия πρωτόγονοι κα πρωτόκτιστοι δυνάμεις; мнение Цана и Н. И. Сагарды, что под этими силами подразумеваются Логос и Св. Дух, ошибочно, т. к. К. А. поясняет здесь смысл ниспослания Утешителя, а не отношение Сына к Св. Духу; см.: Zahn. 1884. S. 98-99; Сагарда. 2004. С. 432; ср.: Bucur. 2009. P. 57), «неподвижных и самосущих», к-рые «вместе с соименными им и подчиненными им ангелами и архангелами производят различные действия». Приводя пример этих действий, К. А. ссылается на случаи обращения Бога к пророкам в ВЗ; т. о., действия Св. Духа и действия «духов» фактически отождествляются (ср.: Oeyen. 1966. S. 37-40). Наличие у К. А. такого представления об отношении между Сыном, Св. Духом и силами (духами) подтверждается его рассуждением в «Строматах»: говоря о единстве Сына, Который соединяет в Себе все, К. А. утверждает: «Все силы Духа (πᾶσαι αἱ δυνάμεις τοῦ πνεύματος), становящиеся все вместе чем-то Одним, соединяются и завершаются в Нем, в Сыне, тогда как Он остается невыразимым через какую-либо отдельно взятую силу» (Clem. Alex. Strom. IV 25. 156. 1). Под «Одним» К. А. мог подразумевать здесь как Сам Логос, так и Св. Дух. Подобные высказывания дают весомые основания для вывода о том, что К. А., восприняв нек-рые идеи из межзаветной иудейской литературы и гностических сочинений, полагал, что Св. Дух есть Лицо Сына, т. е. проявление Его вовне, и допускал, что Св. Дух существует не как единая Ипостась, но как семь во всем тождественных и равных друг другу ипостасей, «протоктистов», действующих через все множество подчиненных им духов. Однако в прямой и однозначно интерпретируемой форме отождествление Св. Духа и протоктистов в сохранившихся сочинениях К. А. не встречается; возможно, К. А. думал, что Св. Дух как Дух Сына лишь действует через протоктистов, но не соприроден им (Ziebritzki. 1994. S. 123). Однако при любой интерпретации очевидно, что отношение Св. Духа к Отцу и Сыну К. А. понимал в духе иерархического субординационизма. Поэтому, вопреки мнению В. В. Болотова (Болотов. 1879. С. 84-85), предложенную К. А. интерпретацию отношения Отца и Сына к Св. Духу нельзя считать аналогичной интерпретации отношения Отца к Сыну, в к-рой элементы субординационизма выражены намного слабее. Вероятно, вслед. того что концепция «ангельской пневматологии» не могла быть убедительно подкреплена текстами Свящ. Писания, К. А. избегал использовать ее в предназначенных для широкого круга читателей сочинениях, не разрабатывал ее подробно и рассматривал как богословскую гипотезу, т. е. как один из возможных способов интерпретации нисхождения трансцендентного Бога к творению и обратного восхождения творения к Богу.
Учение о творении
I. Бог как Творец и Промыслитель. Рассуждая о творении мира Богом, К. А. называл творение как делом Отца, так и делом Сына (Логоса). Он говорил о «Боге Творце» (ὁ δημιουργὸς θεός) и «Его Сыне» (Clem. Alex. Strom. I 19. 91. 5; ср.: IV 13. 92. 1); утверждал, что Бог (т. е. Отец) «сотворил мир и все, что в нем» (Ibid. 3); называл Отца первой и высшей «причиной всякого возникновения и всего возникшего» (Ibid. V 12. 81. 4; ср.: VI 9. 78. 5); используя платоновское выражение, именовал Его «Творцом и Отцом всего» (см.: Clem. Alex. Strom. II 3. 78. 3; III 11. 78. 5; ср.: Plat. Tim. 28c). Безначальный Бог (т. е. Отец), по словам К. А., есть единое «всесовершенное Начало всего, производящее [второе] Начало» (ἀρχὴ τῶν ὅλων παντελής, ἀρχῆς ποιητικός), т. е. Сына; Бог «как Сущность есть начало всей природы, как Благо - начало этики, как Ум - словесности и рассудительности» (Clem. Alex. Strom. IV 25. 162. 5; ср.: Ibid. VI 9. 78. 5). Вместе с тем К. А. считал Творцом и Сына, утверждая, что как Творец (δημιουργός) Он «в начале» (ср.: Быт 1. 1; Ин 1. 1) даровал людям жизнь (см.: Clem. Alex. Protrept. 1. 7. 3; ср.: Paed. III 12. 99. 2-3). Согласно К. А., при творении Сын действует как исполнитель воли Отца: «Сын видит благость Отца и действует (ἐνεργεῖ) в соответствии с ней» (Strom. V 6. 38. 7); как происходящее от Отца Начало Он также есть «божественное Начало всего» (Protrept. 1. 6. 5); через Него «все возникло по воле Отца» (Strom. V 14. 103. 1). Т. о., для К. А. творение не было делом только Отца или только Сына; он полагал, что Сын как Творец всегда творит в единстве с Отцом. Однако, поскольку Отец открывается через Сына, познание единой творческой деятельности Отца может быть приобретено лишь посредством рассмотрения многообразной творческой деятельности Сына (ср.: Osborn. 1957. P. 40).
Сотворив мир, Бог не удалился из него, но постоянно действует в нем, поддерживая мировой порядок, управляя всеми частями мироздания, ведя творение в целом к предустановленной Им цели. Для обозначения всей деятельности Бога по отношению к сотворенному Им миру К. А. использовал понятие «Промысл» (προνοία; анализ учения К. А. о Промысле см.: Ewing. 2008; Bergjan. 2010; Беневич. 2013). Согласно К. А., учение о Промысле является смысловым центром христ. философии, т. к. отказ от признания Промысла Божия неминуемо приводит человека к безбожию и неверию: «Если устранить Промысл, все домостроительство Спасителя покажется мифом... Поэтому учение, следующее Христу, признает Бога Творцом и учит о том, что [Его] Промысл нисходит до самых мельчайших частей [мироздания]» (Clem. Alex. Strom. I 11. 52. 2-3; ср.: Ibid. VI 15. 122. 3). Промыслительную заботу о мире К. А. связывал преимущественно с Сыном (Логосом); Он, будучи Силой и Деятельностью Отца, выражает «всеобщий Промысл Божий», т. е. непрестанно через нижестоящие причины реализует волю Отца относительно всего творения в целом и каждой из тварных вещей в отдельности (см.: Ibid. VI 16. 148. 6). По словам К. А., «Божественный Логос - это воистину Правитель и Повелитель; Его Промысл надзирает за всем и не оставляет заботой ничего из того, что доверено его попечению» (Ibid. VII 2. 8. [4]). Наиболее общим делом Промысла, согласно К. А., является обеспечение единства и гармоничной согласованности всего мироздания: Логос как Промыслитель «все упорядочивает и всем повелевает согласно с волей Отца» (Ibid. 5. 4), осуществляя «святое домостроительство» (Ibid. 6; ср.: V 1. 7. 8; 15. 153. 4). В исторической перспективе К. А. связывал деятельность Промысла Логоса с делом спасения: допустив свободное грехопадение человека, Бог в Своем Промысле предустановил даровать всем людям возможность стать спасенными. Согласно К. А., вся мировая история до Боговоплощения была упорядочена мудрой деятельностью Промысла с целью приготовления людей к видимому явлению Логоса в Иисусе Христе (см.: VII 2. 6. 1-6). Воплотившись и став Спасителем, Логос предлагает каждому человеку дар спасительной любви Божией, который человек должен принять своим свободным решением (см.: Ibid. 12. 1-5). Христ. представление о Промысле Божием, по учению К. А., не тождественно языческому учению о «необходимости» или «фатуме»; поскольку человеческая свобода установлена Богом, Промысл Божий действует не посредством принуждения, но посредством убеждения, открывая человеку истину и призывая следовать спасительному учению. Представление о всеобщем характере Промысла Божия К. А. использовал для решения традиц. философско-богословского вопроса о том, почему благой Бог допускает существование зла (общий анализ темы зла у К. А. см.: Floyd. 1971; ср. также: Karavites. 1999). Согласно К. А., все существующее в мире зло есть следствие свободного выбора разумных существ: духов и людей; хотя возможность этого выбора дарована Богом, Бог не может быть признан ответственным за использование кем-то свободы для совершения зла. Не совершая и не одобряя зла Сам, Бог также «не предотвращает» (μὴ κωλύειν) его, позволяя разумным существам целиком реализовать их стремления (см.: Clem. Alex. Strom. IV 12. 87. 1). Однако, будучи благим Управителем мира, Бог всякое возникающее в мире зло превращает в благо: «Величайшее дело Божественного Промысла заключается в том, что он не позволяет злу, возникшему вследствие добровольного отпадения, оставаться бесполезным и бесплодным, и тем более не дает ему стать целиком вредным. Ибо мудрость, благость и сила Бога проявляются не только в том, что Он творит благо... но более всего в том, что Он может, пользуясь измышленными кем-то злодеяниями, достичь некой благой и полезной цели, сделав полезным то, что кажется вредным» (Ibid. I 17. 86. 2-3). Показательным примером соединения зла, проистекающего от человеческой воли, и блага, происходящего от Бога, для К. А. являлись гонения на христиан: Бог не желал, чтобы язычники мучили и убивали христиан, однако, предвидя, что это случится, он сделал так, что претерпеваемые христианами страдания стали для них источником вечного блаженства и кратчайшим путем спасения (см.: Ibid. IV 11. 78-79). Т. о., объективное зло при его рассмотрении в соотнесении с общим замыслом Промысла Божия всякий раз оказывается служащим некоему благу.
Промысл Божий о мире и человеке, по словам К. А., «открывается при наблюдении за всеми видимыми вещами, то есть за искусными и мудрыми делами, которые отчасти совершаются в [предустановленном] порядке, а отчасти открываются согласно ему же» (Clem. Alex. Strom. V 1. 6. 2). При этом познание наличного природного порядка доступно естественному разуму человека, к-рый способен восходить от следствий к причинам, тогда как познание промыслительного порядка, т. е. знание о происхождении мира и цели его существования, преподано в Свящ. Писании. Поскольку знание о Боге как Творце и Промыслителе является необходимым основанием для понимания дел, творимых Им как Спасителем, достижению гносиса, согласно К. А., должно предшествовать обладание надежным знанием об устроении мира и его причине, первоначально приобретаемым на пути естественного богопознания, к-рое К. А. называл «природным созерцанием» (φυσικὴ θεωρία - см.: Ibid. I 1. 15. 2). Соединяясь с откровенной истиной, «природное созерцание» становится «гностической физиологией» (γνωστικὴ φυσιολογία - см.: Ibid. IV 1. 3. 1-2), т. е. христ. учением о тварном мире, к-рое методологически является пропедевтикой к гностическому познанию Бога, а теологически есть следствие, выводимое из этого познания.
II. Космогония и космология. Отправной точкой для космогонического и космологического учения К. А. являются первые главы кн. Бытие, однако на представления К. А. о происхождении и устройстве мира значительно повлияли и современные ему философские концепции, гл. обр. учение Филона Александрийского и средних платоников. Наиболее важные темы, при рассмотрении к-рых К. А. предлагал оригинальное совмещение библейского учения и философских концепций, были выделены Лиллой: 1) одномоментное и вневременное сотворение мира; 2) различение между умопостигаемой и чувственной сферами бытия, основанное на платоническом учении о том, что идеи есть образцы для материальных вещей; 3) учение о материи (см.: Lilla. 1971. P. 191-199).
Согласно К. А., библейский рассказ о 7 днях творения (Быт 1. 1 - 2. 2) не следует понимать буквально. Последовательность дней творения имеет важный смысл, указывая на упорядоченность различных элементов сотворенного мира, однако «по замыслу» (νοήματι) все было сотворено «сразу» (ἅμα): «Все возникло вместе (ὁμοῦ) из единой сущности единой Силой (ἐκ μιᾶς οὐσίας μιᾷ δυνάμει), ибо едина Воля Бога в единой тождественности» (Clem. Alex. Strom. VI 16. 142. 2-3). Для пояснения этой мысли К. А., подобно Филону (см.: Philo. Leg. all. I 19-21), соотносил повествование о 7 днях творения со словами кн. Бытие: «Это книга бытия неба и земли, когда начало быть (ὅτε ἐγένετο) [все], в день (ᾗ ἡμέρᾳ), когда сотворил Бог небо и землю» (Быт 2. 4; по LXX). По толкованию К. А., выражение «начало быть» указывает на «неопределенное и вневременное происхождение». «День» - это «Тот, в Ком и через Кого Бог сотворил всё»; Логос, без Которого ничто не начало быть (ср.: Ин 1. 3) и «через Которого пришло в бытие и в свет всякое творение»; действующий Сын (см.: Clem. Alex. Strom. VI 16. 145. 4-6; подробнее о понятии «день» у К. А. см.: Choufrine. 2002. Р. 123-135). Т. о., мир первоначально возник как выражение единой Воли Отца в едином Сыне, Который как Логос содержит в Себе идеи всего возникшего в единстве, и лишь затем обрел вслед. действия Логоса как Силы чувственное бытие. Согласно К. А., мир имел начало, но не возник во времени, поскольку время началось вместе с сотворенным миром (Clem. Alex. Strom. VI 16. 142. 4; 145. 4); такое же мнение высказывал Филон (см.: Philo. De opif. 26-28; Idem. Leg. all. I 2, 20). Учение К. А. о том, что время возникло вместе с сущим, связано также с представлением о времени как о следствии вращения небесных тел, к-рое, основываясь на словах из кн. Бытие (Быт 1. 14), также принимал Филон (см.: Philo. De opif. 26; Idem. Leg. all. I 2). Указывая, что создающее время движение светил и звезд происходит согласно Божию Промыслу и под руководством Логоса как Силы Бога, К. А. противопоставлял это представление о времени языческим мнениям о божественности и одушевленности небесных тел, управляющих миром (см.: Clem. Alex. Protrept. 4. 63. 1; 10. 102. 1; Strom. VI 16. 148. 2).
Различая умопостигаемый мир (κόσμος νοητός) и чувственный мир (κόσμος αἰσθητός), К. А. считал, что начальные слова кн. Бытие, повествующие о сотворении неба, безвидной земли и света (Быт 1. 1-5), относятся к умопостигаемому миру, заключенному в Сыне как в Монаде. Этот мир является архетипом (ἀρχέτυπον), или парадигмой (παράδειγμα), т. е. образцом для чувственного мира (Clem. Alex. Strom. V 14. 93. 4). Т. о., К. А. соглашался с пересказываемым им учением Платона об идеях (ср.: Plat. Tim. 30c-d), согласно к-рому идеи в умопостигаемом мире являются образцами для видов (или природ) в чувственном мире (Clem. Alex. Strom. V 14. 94. 2). В «Увещевании к язычникам» учение о 2 этапах творения выражено на примере творения человека; К. А. утверждает, что люди до сотворения мира были «рождены в Боге», т. е. в Логосе, содержащем в Себе замысел Божий (см.: Protrept. 1. 6. 4; ср.: Еф 1. 4). Чувственное небо, землю и свет Бог сотворил, создав твердь (ср.: Быт 1. 6), т. к. «твердость» есть аллегорическое обозначение чувственного мира в целом (Clem. Alex. Strom. V 14. 94. 1). Представление о различии умопостигаемого и чувственного миров ярко выражено в сочинениях Филона (см., напр.: Philo. De opif. 16, 29, 36, 129); К. А. мог почерпнуть его как из них, так и непосредственно из «Тимея» Платона (ср.: Lilla. 1971. P. 191-192). В отличие от мн. платоников К. А. не вводил жесткого противопоставления умопостигаемого и чувственного миров; будучи творением благого Бога и Его Логоса, чувственный мир устроен слаженно и гармонично (Clem. Alex. Protrept. 1. 5. 1-2).
Свт. Фотий, патриарх К-польский, утверждал, что в «Очерках» К. А. учил о существовании «многих миров до Адама» (πολλοὺς πρὸ τοῦ ᾿Αδὰμ κόσμους τερατεύεται - Phot. Bibl. 109). В сохранившихся сочинениях К. А. представление о мн. мирах, сменяющих друг друга в процессе непрерывного циклического возникновения и уничтожения видимого космоса, характерное для философии Гераклита и стоиков, встречается лишь в контексте обсуждения философских космологических концепций и не принимается эксплицитно К. А. как истинное (см.: Clem. Alex. Strom. V 12. 79. 2-4; 14. 103. 6; 104. 1-5; 105. 1). Представление о мн. мирах не согласуется с основными богословскими принципами К. А. и противоречит его представлению о мировой истории как о едином и цельном процессе, происходящем под руководством Промысла Божия. Т. о., утверждение свт. Фотия, вероятнее всего, является некорректным; оно может основываться либо на ошибочном признании взглядами самого К. А. неких обсуждаемых им философских положений, либо на непонимании смысла развитого им учения об умопостигаемом мире, либо на интерполированных в текст «Очерков» оригенистских мнениях (см.: Ashwin-Siejkowski. 2010. P. 39-54).
Рассматривая философские учения о началах мира, К. А. отвергал представление о том, что материя является совечным Богу началом. Такое учение о материи К. А. обнаруживал у стоиков, Платона, Пифагора и Аристотеля; их взглядам К. А. противопоставлял христ. представление о существовании единственного начала всего - Бога (см.: Clem. Alex. Strom. V 14. 89. 5-7). Согласно К. А., у греч. философов при этом встречаются 2 верных представления о материи. Сторонники 1-го представления (см., напр.: Plat. Tim. 50d-e; Arist. De cael. III 8. 306b15-20; Idem. Phys. I 7. 191a8-12; SVF. I 85 (мнение стоика Зенона Китийского)) определяют материю как «бескачественную» (ἄποιον) и «бесформенную» (ἀσχημάτιστον); К. А. полагал, что основанием для этого учения послужили известные греч. философам слова кн. Бытие: «Земля же была безвидна и пуста» (Быт 1. 2; ср.: Прем 11. 17). Автором 2-го, «более дерзновенного» представления, согласно которому материя есть «не-сущее» (μὴ ὄν), К. А. называл Платона. Хотя в явной форме учение о материи как о «не-сущем» Платон не формулировал, оно может быть выведено из его рассуждений в «Тимее» и др. диалогах (см., напр.: Plat. Tim. 51a). После Аристотеля, к-рый прямо назвал материю «не-сущим» (см.: Arist. Phys. I 9. 191b36-192a9), такое представление о материи развивалось нек-рыми средними платониками и перипатетиками (см.: Lilla. 1971. P. 195-196). По утверждению Лиллы и присоединяющихся к его т. зр. ученых (см., напр.: Ashwin-Siejkowski. 2010. P. 34-37; Морескини. 2011. С. 150), К. А. понимал «не-сущее» не в смысле «ничто», т. е. полного небытия, а в философском смысле, как обозначение бескачественного и неоформленного субстрата, «предсуществующей материи», из к-рой Бог сотворил весь чувственный мир. Дополнительное основание для такого заключения дает замечание свт. Фотия, патриарха К-польского; по его словам, К. А. в «Очерках» утверждал, что «материя вневременна» (ὕλην... ἄχρονον... δοξάζει - Phot. Bibl. 109), т. е. существует до творения чувственного мира. Утверждение свт. Фотия не находит подтверждения в сохранившихся сочинениях К. А. В «Строматах» он прямо отвергает философское учение о материи как о «начале», отмечая, что Платон, говоря в «Тимее» о «начале всего» (ἁπάντων ἀρχή - Plat. Tim. 48c2-6), тем самым прикровенно выразил истинное учение о том, что в действительности «начало одно» (μίαν τὴν ὄντως οὖσαν ἀρχὴν; Clem. Alex. Strom. V 14. 89. 7). По мнению Лиллы, признание К. А. вечности материи следует из того, что он принимает в качестве философской характеристики материи «бескачественность», к-рая у нек-рых авторов, принадлежавших к платонической традиции, связывалась с ее вечностью (см.: Lilla. 1971. P. 194-195). Однако в действительности К. А., как и др. христ. авторы, вполне мог учить о бескачественности материи, но не допускать ее вечности (см.: Osborne. 2010. Р. 278; Chadwick. 1970. P. 171). Слова К. А. о том, что мир произошел от одного Бога и получил существование «из не-сущего» (ἐκ μὴ ὄντος), вероятнее всего, свидетельствуют о том, что он был сторонником представления о творении мира из ничего (см.: Clem. Alex. Strom. VI 16. 142. 3). Вместе с тем, хотя К. А. знал Вторую книгу Маккавейскую, он ни разу прямо не цитировал того отрывка, в к-ром выражено учение о творении из ничего: «...посмотри на небо и землю и... познай, что Бог сотворил их из ничего (οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός)...» (2 Макк 7. 28; по LXX); не цитировал К. А. и соответствующего места из «Пастыря» Ермы (см.: Herm. Pastor. II 1. 1). О том, что К. А., вопреки мнению Лиллы, не отождествлял «материю» (ὕλη) и «ничто» (μὴ ὄν), ясно свидетельствует формулируемое им сопоставление творения из «материи... которая во всех отношениях отличается от Бога» и из «не-сущего... которое совершенно не существует» (Clem. Alex. Strom. II 16. 74. 1). Указывая на возможность двойственной интерпретации происхождения мира и человека в контексте полемики с гностиками, полагавшими, что человек «единосущен» (ὁμοουσίους) Богу и что творение есть эманация Бога, К. А. не присоединялся ни к одной из обозначенных 2 позиций, вероятно, считая их равноценными и совместимыми, однако решительно отвергал учение гностиков о том, что творение в целом и человек в частности обладают «природной связью» (φυσικὴ σχέσις) с Богом, т. е. являются как бы «частью» (μέρος) Его природы (см.: Ibid. 1-4). Т. о., для К. А. творение всегда иноприродно Творцу, а потому и материя не может быть Ему совечна или быть Его вечным «излиянием». Утверждение свт. Фотия, однако, находит параллели в рассуждениях К. А. о вневременности творения мира; при этом в «Строматах» К. А. относит вневременность творения лишь к умопостигаемому миру, т. е. к миру как к совокупности идей в Логосе. К. А. мог полагать, что материя также является вневременной в том смысле, что она предшествует чувственному миру, однако не подлежит сомнению, что К. А. отвергал представление о материи как о совечном Богу начале и считал ее тварной.
К. А. разделял распространенное в греч. философии представление о 4 стихиях (στοιχεῖα), или первоэлементах, из к-рых состоит материальное сущее: земле, воздухе, воде и огне; их Создателем является Бог (ср.: Clem. Alex. Strom. VII 6. 34. 1; Protrept. 5. 64. 1, 4; 65. 4). Взаимодействием первоэлементов создаются видимые природные объекты и явления: моря, земли, движения теплого и холодного воздуха и т. п.; все это находится в гармонии в соответствии с замыслом Бога (Protrept. 1. 5. 1-2). Многообразие видимого мира было создано посредством различной конфигурации первоэлементов, к-рые в начале творения были смешаны друг с другом, а затем распределены в соответствии с исполняемой ими в мироздании функцией (ср.: Strom. VII 6. 34. 1). Без сочетания 4 первоэлементов невозможны никакое чувственное бытие и никакая жизнь (Ibid. II 6. 31. 3).
II. Ангелология. В учении о небесных силах К. А. является предшественником подробно разработанной ангелологии «Ареопагитик». Хотя К. А. не употребляет понятие «иерархия», впервые использованное для описания ангельского мира лишь в «Ареопагитиках», принцип иерархичности в его учении проводится вполне последовательно. Согласованность между частями тварного сущего, по мнению К. А., связана с порядком, возводящим к великому Первосвященнику, Которому поручено управлять вселенной,- Сыну (см.: Clem. Alex. Strom. VII 2. 9. 2-3). Небесную иерархию составляют, по нисходящей, Логос, семь протоктистов, архангелы и ангелы. При рассуждении о небесных силах К. А. не проводил строгого различия между тварными ангельскими сущностями и нетварными Сыном и Св. Духом, употребляя в обоих случаях термин «происхождение». В качестве высшего начала для иерархии выступает Сын как «Лик (πρόσωπον) Отца» (см.: Clem. Alex. Exc. Theod. 10, 12; восходящее к ВЗ (см.: Исх 33. 20, 23) понятие, ставшее особенно популярным в иудаизме эпохи Второго храма). Все ангельские чины упорядочены по принципу близости к Сыну, т. к. через Него они созерцают Бога; при этом нижестоящие чины созерцают Его и получают знание о Нем при посредстве вышестоящих. В «Строматах» К. А. утверждал, что каждый чин в своей спасительной деятельности и в восхождении к Богу движется вышележащим чином и движет нижележащий (см.: Clem. Alex. Strom. VII 2. 9. 3; ср.: Ibid. VI 16. 148. 6). При описании функций, исполняемых ангелами в тварном мире, К. А. ориентировался на упоминания об их действиях в Свящ. Писании, утверждая, что они, повинуясь Логосу, осуществляют управление всем мировым движением (планетами и звездами, ветрами и др. погодными явлениями и т. п.; см.: Ibid. V 6. 37. 2; Eclog. proph. 55); по Божию повелению они оказывают разнообразную помощь людям, направляя их к спасению (см., напр.: Strom. V 14. 91. 3; VI 3. 30. 4-5). Из рассуждений К. А. в «Извлечениях из сочинений Феодота...» и «Избранных местах из пророческих писаний» можно заключить, что он не видел природного различия между чинами ангелов и человеческими душами, считая, по-видимому, что все они представляют одну «духовную» природу, но в разной степени совершенства (см.: Exc. Theod. 10-12; Eclog. proph. 51-57). В «Строматах» К. А. также утверждал, что совершенный гностик отличается от ангелов лишь «временем» (χρόνῳ), т. е. подчиненностью временности земной жизни, и «одеянием» (ἐνδύματι), т. е. телесностью (Strom. IV 3. 8. 7). По мнению К. А., по мере того как ангелы возрастают в богосозерцании и богопознании, они переходят из более низкого ангельского чина в более высокий; человеческие души также сперва занимают места низших ангелов, а затем возвышаются к более высоким ангельским чинам (Eclog. proph. 57. 5; подробнее см.: Bucur. 2009. P. 32-51; Cambe. 2009. P. 83-147).
В сочинениях К. А. неоднократно упоминаются диавол и падшие ангелы. Подробно о причине и обстоятельствах падения ангелов К. А. не рассуждал, однако в «Строматах» он утверждал, что ангелы пали из-за «нерадивости» (ῥᾳθυμία), вероятно, обозначая этим словом отсутствие у них личного желания двигаться к более высокому совершенству; они не сумели отказаться от двойственности, т. е. от выбора между добром и злом, и достичь единства, т. е. состояния соединения с Богом (Clem. Alex. Strom. VII 7. 46. 6; ср.: Ibid. VI 9. 73. 3-6). В качестве косвенной причины падения нек-рых ангелов К. А. упоминал также об их вожделении к земным женщинам (см.: Paed. III 2. 14. 2; Strom. III 7. 59. 2; V 1. 10. 2; ср.: Быт 6. 1-2). Согласно свт. Фотию, патриарху К-польскому, в «Очерках» К. А. утверждал, что «ангелы соединялись с женщинами и имели детей» (Phot. Bibl. 109); это мнение К. А. почерпнул из апокрифической «Первой книги Еноха». Принимая библейское учение о том, что злые духи выступают как искусители, склоняющие человека ко греху (см., напр.: Clem. Alex. Strom. II 13. 56. 2), К. А., однако, не признавал, что они могут насильственно подчинять себе человека и вселяться в него против его воли; по его словам, избирая и творя зло, человек добровольно подражает демонам и соединяется с ними (см.: Ibid. 20. 116. 3 - 117. 3; VI 12. 98. 1-2).
III. Антропология. В учении о природе человека К. А. опирался преимущественно на библейские тексты, однако нередко интерпретировал их, используя понятия греч. философии (общий обзор антропологии К. А. см.: Behr. 2000. P. 135-151; ср. также: Rüther. 1922; Mayer. 1942; Karavites. 1999; White. 2008; Dainese. 2012. P. 53-113). Сотворение человека есть предвечный замысел Божий; в связи с этим К. А. утверждал, что люди «были до сотворения мира» (πρὸ τῆς τοῦ κόσμου καταβολῆς ἡμεῖς), поскольку они были «рождены в самом Боге» (ἐν αὐτῷ πρότερον γεγεννημένοι τῷ θεῷ), т. е. существовали в Его Логосе, по образу Которого затем были сотворены во времени (Clem. Alex. Protrept. 1. 6. 4). Подчеркивая, что человек является наиболее прекрасным и наиболее совершенным из творений Божиих, К. А. в «Увещевании к язычникам», опираясь на выражения Платона и Пиндара, отмечал, что человека как «одушевленную статую» вылепил «единый Зиждитель всего, превосходящий всех умением Отец» (Ibid. 10. 98. 3; ср.: Plat. Tim. 28c; Pindar. Fragm. 57). Это высказывание, однако, как и слова К. А. о том, что Бог «соделал человека собственными руками» (Clem. Alex. Paed. I 3. 7. 1) свидетельствует лишь об особом положении человека среди прочего творения и не означает, что человека сотворил непосредственно Бог Отец. Согласно К. А., человек есть «третий божественный образ» (τρίτη θεία εἰκών), т. к. образ «Всецаря и Вседержителя Отца» отпечатлевается в Сыне, Который есть «вторая Причина» (см.: Strom. VII 3. 16. 5-6); человеческий ум, по словам К. А., представляет собой образ Логоса, Который есть Сын Отца и Образ Ума Отца (Protrept. 10. 98. 3; Strom. V 14. 94. 5; ср.: 2 Кор 4. 4). Без человека творение не было бы совершенным, т. к. сотворенное не могло бы познать своего Творца; он - микрокосм (σμικρὸς κόσμος), наделенный высшей гармонией и отображающий совершенство Творца (см.: Clem. Alex. Protrept. 1. 5. 3; 10. 100. 2).
Комментируя библейское повествование о сотворении человека (Быт 1. 26-27), К. А. проводил различие между созданием «по образу (κατ᾿ εἰκόνα) Божию» и «по подобию (καθ᾿ ὁμοίωσιν) Божию», однако при этом подчеркивал внутреннюю взаимосвязь обоих обозначений (обзор и анализ текстов см.: Mayer. 1942. S. 5-46). Если образ Божий есть природная данность всякого человека, обладающего им «по рождению» (κατὰ τὴν γένεσιν), то подобие Божие приобретается «по мере совершенства» (κατὰ τὴν τελείωσιν; Clem. Alex. Strom. II 22. 131. 6). Рассматривая «подобие Божие» в христоцентричной перспективе, К. А. в «Педагоге» утверждал, что Иисус Христос есть «единственный истинный, благой, справедливый Сын, обладающий образом и подобием Отца» (Paed. I 11. 97. 2; 12. 98. 3). Т. о., обретение подобия Богу стало возможным для людей только в результате Боговоплощения; путем к нему является подражание и уподобление Иисусу Христу. По утверждению К. А., окончательное «исполнение» слов кн. Бытие о подобии Божием в человеке является результатом длительного домостроительного процесса спасения, предустановленного Промыслом Божиим и проходящего под руководством Логоса, Который «образовал человека из праха, возродил его водой, взрастил его духом, воспитал его словами, подготовил к усыновлению и спасению святыми заповедями, с тем чтобы в завершение всего посредством приближения к нему преобразовать земнородного человека в святого и небесного» (Ibid. 98. 2; ср.: Быт 2. 7; 1 Кор 15. 47-49; Гал 4. 3-5; см. также: Paed. I 3. 9. 1; III 12. 101. 1; Protrept. 12. 122. 4). Приобретение подобия Богу К. А. считал важнейшей задачей для человека, стремящегося к гностическому совершенству, который призван «не пренебрегать ничем из того, что может способствовать достижению подобия» (Strom. II 19. 97. 1). Согласно К. А., всякий человек, созданный по образу Божию, отличается от животных лишь наличием у него ума и словесности, тогда как тот, кто сообразует свою жизнь с жизнью Господа и похож на Него делами, становится подобным Богу и тем самым «богом» по благодати (см.: Ibid. IV 6. 30. 1; Paed. I. 12. 98. 3; близкое понимание соотношения образа и подобия из раннехрист. писателей встречается у сщмч. Иринея, еп. Лионского; см.: Iren. Adv. haer. V 6; впосл. оно было поддержано мн. отцами Церкви и получило признание в правосл. аскетике). Наряду с различением образа и подобия у К. А. встречается и их отождествление; говоря о творении высшей части человека, его ума (νοῦς), К. А. называл его созданным «по образу и по подобию» Бога (см., напр.: Clem. Alex. Protrept. 10. 98. 3; Strom. V 14. 94. 3-5; VI 9. 72. 2). Такой способ выражения не означает, однако, отказа К. А. от различения образа и подобия, но скорее, как справедливо указал А. Майер, свидетельствует о том, что для К. А. в образе всегда заложена возможность подобия. Поскольку ум человека есть тварный логос, созданный по образу Божественного Логоса, он по природе способен к уподоблению божественному началу; при этом при практическом движении к уподоблению ум призван занять главенствующее положение и подчинить себе все более низкие части человека (см.: Mayer. 1942. S. 22-28). Кроме того, иногда К. А. использовал понятие «образ» в значении «подобие», указывая с его помощью не только на природное достоинство человека, но и на достигнутое им состояние духовной тождественности Первообразу, т. е. Иисусу Христу (см.: Clem. Alex. III 5. 42. 5-6; VI 9. 77. 4-5); такое словоупотребление, вероятно, восходило к языку Посланий ап. Павла (см., напр.: 1 Кор 15. 49; 2 Кор 3. 18; Кол 3. 10; подробнее см.: Mayer. 1942. S. 28-32).
Объясняя слова кн. Бытие о том, что Бог при творении «вдунул» в человека «дыхание жизни» (Быт 2. 7), К. А. понимал их как указание на творение человеческого разумного духа (πνεῦμα; см., напр.: Strom. V 13. 87. 4; 88. 4), или разумной души (ψυχή; см., напр.: Protrept. 10. 92. 2). По его мнению, именно в духе, а не в теле человека присутствует подлинный образ Логоса (Strom. VI 16. 136. 3). При этом, полемизируя с языческими философами и гностиками, К. А. не соглашался с тем, что разумный дух, являющийся жизненным началом всякого человека, есть «часть Бога» (μέρος θεοῦ) или Св. Дух. Согласно К. А., разумный дух не родственен Богу и человек не причастен Св. Духу по природе (см.: Ibid. II 16. 74-75). В связи с этим К. А. различал 2 основных значения греч. слова πνεῦμα: оно может указывать на человеческий дух в целом и на его 2 части (разумную и неразумную), являясь тождественным по значению понятию «душа», а также может обозначать Св. Дух и его духовное присутствие в душе человека (анализ соответствующих мест см.: Mayer. 1942. S. 33-46). Духовная причастность Св. Духу, к-рую К. А., следуя понятийному языку НЗ (см., напр.: Рим 8. 9, 11; 1 Кор 3. 16), называл «вселением» Св. Духа в человека, приобретается исключительно посредством веры и доступна лишь христианам (см.: Clem. Alex. Strom. V 13. 88. 1-4; VI 16. 134. 2).
При изложении учения о частях души К. А. использовал платоническую и стоическую терминологию, нередко обозначая одни и те же части с помощью различных наименований, не всегда корректно интерпретируемых в исследовательской литературе. Наиболее общее деление души на 2 части было заимствовано К. А. у Филона Александрийского, к-рый писал о разумной (λογικός) и неразумной (ἄλογος) частях души (см.: Philo. Quis rer. div. 167). Опираясь на это деление, К. А. соотносил его со словами ап. Павла: «Плоть желает противного духу, а дух - противного плоти» (Гал 5. 17). Разумную часть К. А. называл также «владычественная часть души» (τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς; Clem. Alex. Strom. VI 16. 134. 1, 2), «словесная часть» (τὸ λογιστικὸν; Ibid. 135. 2), «разумная душа» (λογικὴ ψυχή - Ibid. V 14. 94. 3). Эта часть, тождественная уму человека, руководит его способностью принимать волевые решения (προαιρετικὴ δύναμις); она является началом, ответственным за исследование, обучение и познание (Ibid. VI 16. 135. 4). Неразумную часть души К. А. называл «подчиненная часть» (τὸ ὑποκειμένον - Ibid. 134. 1), «плотский дух» (πνεῦμα σαρκικόν - Ibid. 135. 3; 136. 1), «духовная часть, возникшая при творении тела» (τὸ κατὰ τὴν πλάσιν πνευματικόν - Ibid. 134. 2; перевод Афонасина: «сила, вдохнутая при творении» (Строматы. 2013. Т. 3. С. 73), целиком ошибочен, т. к., согласно К. А. ,«вдохнута» Богом была разумная часть, тогда как неразумный плотский дух был «слеплен» вместе с телом). Неразумной части души подчинены чувственные способности человека, к-рые управляют соответствующими телесными органами: пять чувств (τά αἰσθητήρια πέντε), способность издавать звуки (τὸ φωνητικόν), порождающая способность (τὸ σπερματικόν) (Clem. Alex. Strom. VI 16. 134. 1-2; ср.: Ibid. II 11. 50. 4). Благодаря неразумной части (плотскому духу) человек обладает способностями двигаться, питаться, расти, ощущать, испытывать эмоции, желать, выполнять любые физические действия (Ibid. VI 16. 135. 3; 136. 1, 4). В «Педагоге» К. А. выделял также 3 начала души, учение о к-рых было развито Платоном (см.: Plat. Resp. 439b - 441c): разумное, яростное и вожделеющее (см.: Clem. Alex. Paed. III 1. 1. 2); хотя эти начала не являются «частями» души в строгом смысле, 1-е из них соответствует разумной части души, а 2 другие - неразумной (ср.: Rüther. 1922. S. 55). Разумная часть души по своей природе предназначена для руководства неразумной частью; она использует все низшие части человека для достижения устанавливаемых ею целей (см.: Clem. Alex. Strom. VI 16. 135. 4; 136. 1-4; ср.: Ibid. VI 6. 52. 1-2). Руководящий всей жизнью человека ум, согласно К. А., есть «эйдос» (εἶδος), благодаря которому всякий человек «характеризуется» (χαρακτηριζόμεθα), т. е. обретает присущее ему своеобразие и индивидуальность (Ibid. VI 9. 72. 2). В «Извлечениях из сочинений Феодота...» содержится утверждение о том, что человеческая душа, подобно всем духам, имеет определенную «телесность». Эта телесность не тождественна грубой чувственной телесности земных тел, но понимается в смысле формальной ограниченности и описуемости (см.: Exc. Theod. 14; 10. 1-2). О том, что К. А. придерживался такого представления о телесности души, вероятно, почерпнутого им из стоических источников, свидетельствует его высказывание в «Строматах», где «бестелесность» (ἀσώματος) разумной души понимается как указание на то, что она есть «тончайшая часть» (τὸ λεπτομερέστερον) пневмы, т. е. духа человека в целом (Strom. VI 6. 52. 1; в отношении стоического происхождения термина см.: SVF. I 484; II 806).
Рассматривая отношение души человека к его телу, К. А. отмечал, что, хотя душа в человеке есть нечто более высокое, а тело - нечто более низкое, по природе ни душа не является благой, ни тело - злым (Clem. Alex. Strom. IV 26. 164. 3). Возражая гностикам, отрицавшим, что человеческая телесность может иметь положительное значение и рассматривавшим помещение души в тело как налагаемое на нее наказание, К. А. указывал на гармоничное сочетание в сотворенном Богом человеке всех его частей. Используя распространенную философскую аргументацию, К. А. утверждал, что устройство тела человека, как и устройство его души, есть дело Промысла Божия: человек создан прямоходящим для того, чтобы созерцать небо, органы чувств созданы для познания; все части тела человека созданы Богом соразмерными (Ibid. 163. 1). Согласно К. А., тело подчинено душе и заботиться о нем следует ради души; будучи «обителью» души, тело вместе с душой удостаивается «освящения» (ἁγιασμός) Св. Духом (Ibid. 2; ср.: Сидоров. 1998. С. 125-126). Восходя к Богу, человек отвлекается от жизни тела, осознавая, что душа заключена в тело лишь на короткое время; в этом отвлечении от рабского служения телесности состоит путь аскезы (Clem. Alex. Strom. IV. 6. 27. 1; 26. 165. 2).
В полемике с представителями гностицизма К. А. подчеркивал, что вся природа человека является благой и совершенной, поскольку она есть произведение единственного благого Бога. К. А. считал ошибочным гностическое учение о том, что тело или некие телесные органы человека являются не творением благого Бога, но произведением злых сил (см.: Ibid. III 4. 34. 1-2); в рамках гностических систем это нередко выражалось через противопоставление мужского и женского начал в человеке. Возможно, именно полемическим обсуждением К. А. гностических идей объясняется замечание свт. Фотия, патриарха К-польского, о том, что в «Очерках» К. А. рассуждал о происхождении Евы от Адама «не так, как это принято в церковном учении, но постыдно и безбожно» (Phot. Bibl. 109). Хотя точно не известно, какое именно представление подразумевал свт. Фотий, по мнению совр. исследователей, вероятнее всего речь идет о гностическом учении, согласно к-рому Адам первоначально был андрогином и Ева возникла из семени Адама. В «Извлечениях из сочинений Феодота...» К. А. проводил соответствующее мнение валентиниан: «В случае Адама мужское семя осталось у него, а все женское семя было отнято у него и стало Евой, от которой женщины, как от него мужчины» (Clem. Alex. Exc. Theod. 21. 2). Сам К. А. не высказывал такого мнения и подчеркивал происхождение от Бога всего человека в полноте его природы; т. о., высказывание свт. Фотия не может быть подтверждено материалом сохранившихся сочинений К. А. (см.: Ashwin-Siejkowski. 2010. P. 129-144). Утверждая, что мужчины и женщины имеют одинаковую человеческую природу и одинаково способны к добродетели (см.: Strom. IV 8. 59. 1), К. А. при этом считал, что разделение человека на 2 пола является следствием его телесности; души людей не являются ни мужскими, ни женскими, поэтому для достигающих отрешения от тела гностиков половые различия теряют всякое значение (см.: Ibid. III 13. 93. 23-3; VI 12. 100. 3).
По словам свт. Фотия, К. А. в «Очерках» признавал существование «переселения душ» (μετεμψυχώσεις... τερατεύεται - Phot. Bibl. 109). Это утверждение не находит подтверждения в сохранившихся произведениях К. А., т. к. в них вопрос о переселении и предсуществовании душ решается в полном соответствии с правосл. вероучением (общий анализ см.: Héring. 1923; Ashwin-Siejkowski. 2010. P. 115-128). В «Строматах» К. А. передавал мнение гностика Василида, согласно к-рому душа, «согрешившая в предыдущей жизни» (προαμαρτήσασαν ἐν τέρῳ βίῳ), наказывается и исправляется страданиями, к-рые она претерпевает во время земной жизни в теле (см.: Clem. Alex. Strom. IV 12. 83. 2); этот процесс гностики обозначали с помощью понятия «заключение в тело» (ἐνσωμάτωσις; см.: Exc. Theod. 28. 1). Считая такое учение ошибочным, К. А. заявлял: «Невозможно, чтобы душа посылалась с небес на землю для претерпевания худшей участи, поскольку Бог все делает только ради лучшей цели; напротив, душа, избравшая наилучшую жизнь, согласную с Богом и с праведностью, получает в обмен на землю небо» (Strom. IV 26. 167. 4; ср.: Ibid. III 14. 94. 2). К. А. были известны различные концепции предсуществования душ; так, в «Строматах» он упоминал, что греки позаимствовали у египтян учение о переселении души в различные тела (μετενσωμάτωσις τῆς ψυχῆς - Strom. VI 4. 35. 1-2); ссылался на мнение нек-рых варварских народов и Платона о том, что добродетельные души добровольно сходят на землю, разделяя с людьми тяготы земной жизни и заботясь о них (Ibid. I 15. 67. 4; ср.: Plat. Resp. 314b - 321d); знал пифагорейское учение о перевоплощении душ людей в животных (см.: Clem. Alex. Strom. VII 6. 32. 8); утверждал, что основанием еретических учений Маркиона и Юлия Кассиана о том, что рождение есть зло, является платоническое представление о душе, которая имеет божественное происхождение, однако из-за вожделения падает в телесный мир рождения и смерти (см.: Strom. III 3. 13. 1-2; 13. 93. 3; ср.: Plat. Phaed. 81a-d; Idem. Phaedr. 248c); упоминал со ссылкой на Платона, что душа при восхождении на небо и при нисхождении на землю проходит через двенадцать знаков Зодиака (см.: Clem. Alex. Strom. V 14. 103. 2-4; ср.: Plat. Resp. 614a - 621b). Приводя эти концепции, К. А. никогда не выражал своего согласия с ними и в ряде случаев давал им критическую оценку. Высказывания К. А. о творении человеческой души Богом свидетельствуют, что он не разделял представление о том, что души людей являются некими падшими умами или ангелами. Прямое отрицание предсуществования души содержится в «Избранных местах из пророческих писаний» (Clem. Alex. Eclog. proph. 17. 1); соответствующий отрывок впосл. был помещен в сб. «Священные параллели», а также сохранился в составе катен на кн. Бытие как часть комментария Акакия, еп. Кесарии Палестинской (IV в.). Согласно свидетельству еп. Акакия, К. А. «отвергал мнение о предсуществовании душ, говоря дословно следующее»: «Бог сотворил нас, не предсуществующих (οὐ προόντας); ведь если мы предсуществуем, то нам надлежит знать, откуда мы [происходим], и каким образом [возникли], и по какой причине приходим сюда (т. е. в земной мир.- Авт.); если же мы не предсуществуем, то единственной причиной нашего происхождения является Бог» (Ibidem; см.: Clem. Alex. Werke. 19702. Bd. 3. S. 141). Предлагаемая здесь аргументация обратна платоновской: согласно Платону, припоминание душой небесной жизни является основанием для заключения о ее предсуществовании (см., напр.: Plat. Phaedr. 249-250); согласно К. А., поскольку в действительности никакого знания о прежнем существовании у человеческой души нет, неверно и предположение о ее предсуществовании (ср.: Héring. 1923. P. 34). Нек-рые исследователи считали, что учение о предсуществовании и переселении душ выражено в представлении К. А. о праведных душах, спускающихся с небес на землю для оказания помощи людям, движущимся к духовному совершенству (см.: Clem. Alex. Quid div. salv. 36; Strom. VI 13. 107. 2-3). В действительности, однако, в данном случае речь идет не о новом воплощении душ, но лишь о том, что совершенные гностики, которые, согласно концепции обожения К. А., достигают равноангельного состояния, начинают исполнять по отношению к тварному миру ангельское служение и оказывать духовную помощь христианам; в последующем правосл. вероучении этому представлению соответствует учение о благодатной помощи, подаваемой Богом через посредство пребывающих на небесах святых (ср.: Héring. 1923. P. 29-30).
IV. Учение о первоначальном состоянии человека, грехопадении и его последствиях. Принимая библейское учение о том, что первым человеком и отцом всех людей является Адам (см.: Clem. Alex. Strom. II 19. 98. 3), К. А. утверждал, что с т. зр. человеческой природы Адам был совершенным: «Адам по устроению (πρὸς τὴν πλάσιν) был совершенным, поскольку не имел недостатка ни в чем, относящемся к идее и образу человека» (Ibid. IV 23. 150. 3). При этом Адам не обладал личным совершенством, но имел лишь заложенные в его природе возможности для его достижения: «Адам в начале существования не был совершенным по состоянию (τὴν κατασκευὴν), однако был вполне способен к приобретению добродетели» (Ibid. VI 12. 96. 1). К. А. полагал, что Адам после сотворения обладал бессмертием (см.: Ibid. II 19. 98. 4), однако он не уточнял, является ли бессмертие природным свойством человека или особым благодатным даром Божиим (ср.: Rüther. 1922. S. 32-33, 42). Пребывание Адама в раю К. А. понимал как в букв. смысле, так и символически; согласно аллегорическому толкованию, заимствованному К. А. у Филона Александрийского (см.: Philo. De poster. Cain. 32), библейское название рая «Едем» (см., напр.: Быт 2. 8), означающее «наслаждение» (τρυφή), указывает на состояние постоянного разумного наслаждения дарами Бога. К. А. утверждал, что духовное наслаждение первых людей в раю - это единство «веры, знания и мира» (πίστις κα γνῶσις κα εἰρήνη), т. е. переживание постоянной близости к Богу и непосредственное ученичество у Божественного Логоса (Clem. Alex. Strom. II 11. 51. 4-5; VI 7. 57. 3-4). Состояние Адама в раю К. А. нередко сравнивал с состоянием детской простоты, чистоты и невинности; по его словам, Адам был «ребенком Божиим» (παιδίον τοῦ θεοῦ) и беззаботно предавался детским играм в раю (Protrept. 11. 111. 1). Чтобы возрасти до состояния мужа, ему не требовалось особых аскетических усилий, но нужно было лишь твердое послушание Богу по свободной воле; добровольно исполняя заповеди Божии, Адам мог возрастать и становиться более зрелым в совершенстве и добродетели (Strom. IV 23. 150. 3-4; ср.: Behr. 2000. P. 136).
Рассматривая библейское повествование о грехопадении (Быт 3. 1-6), К. А., как и Филон (см., напр.: Philo. De opif. 157), указывал, что искушавший Еву змей аллегорически обозначает «удовольствие» (ἡδονή), которое «есть земное зло, влекущее к материи» (Clem. Alex. Protrept. 11. 111. 1). Хотя из слов К. А. о победе Иисуса Христа над змеем (Ibid. 2) и о продолжающейся обольстительной деятельности змея (Ibid. 1. 7. 4-6) можно заключить, что ему было известно отождествление змея с диаволом, специально о роли диавола в грехопадении К. А. не рассуждал. По мнению К. А., удовольствие, к-рому подчинились первые люди, не было внешним по отношению к человеческой природе и противоестественным, но являлось возможностью самой природы, однако эта возможность оказалась реализована ненадлежащим образом. Полагая, что греховное удовольствие было связано со вступлением Адама и Евы в брачные отношения, К. А. не соглашался, однако, с гностиками в том, что греховным является любое брачное совокупление как таковое. Согласно К. А., Адам и Ева были созданы Богом для вступления в брак, однако они не проявили покорности Богу и не дождались определенного Богом времени; их разум, обязанностью к-рого было властвовать над чувственностью, оказался порабощен неудержимым чувственным стремлением к удовольствию (см.: Strom. III 17. 102-103; ср.: Ibid. III 14. 94. 3; Protrept. 11. 111. 1-2). Т. о., с формальной стороны грехопадение первых людей состояло в сознательном и свободном нарушении заповеди Бога, а с содержательной стороны - в неразумном стремлении к удовольствию (ср.: Rüther. 1922. S. 39-40; Behr. 2000. P. 142-144).
Основные последствия грехопадения были определены природой совершенного первыми людьми греха. Ссылаясь на слова из Псалтири: «Человек, бывший в чести, не уразумел; он присоединился к неразумным животным и уподобился им» (Пс 48. 13; по LXX), К. А. утверждал, что, поддавшись чувственности, человек удалился от разумности, уподоблявшей его Логосу, и приблизился к неразумным животным: «Он не вправе уже называться человеком, ибо тот, кто согрешил против разума (παρὰ λόγον ἁμαρτάνων), уже не является разумным (λογικός), но есть неразумный (ἄλογον) зверь, находящийся во власти вожделений и порабощенный всякого рода удовольствиями» (Clem. Alex. Paed. I 13. 101. 3; 102. 1; ср., однако: Strom. III 17. 102. 1-4, где К. А. отвергает чрезмерно букв. понимание приближения человека к животной природе, предлагавшееся гностиками). Хотя человек не утратил в результате греха разумность как природную способность, его разум оказался во власти чувственных желаний и начал служить им. Потеряв возможность богообщения, человек лишился источника истинного гностического знания и оказался во власти суетных мнений (см.: Strom. II 11. 51. 4-6). Повторяя выражение Филона (см.: Philo. De virt. 205), К. А. утверждал, что в грехопадении Адам «променял жизнь бессмертную на смертную» (Clem. Alex. Strom. II 19. 98. 4); он оказался «связан тлением» (φθορᾷ δεδεμένον - Protrept. 11. 111. 2), т. е. порабощен «делами страсти», которые растлевают и умерщвляют душу (см.: Strom. III 9. 63. 3-4). Понимая «тление» в духовном смысле, К. А. не считал наказанием за грех ни саму по себе телесность (Ibid. 14. 95. 1-2), ни телесную смерть (см.: Ibid. 9. 64. 1-3; ср.: Rüther. 1922. S. 42).
Хотя отдельного рассмотрения вопроса о значении греха прародителей для всего человеческого рода К. А. не предлагал, из его отдельных замечаний можно заключить, что представление о грехе первородном было ему чуждо (общий анализ вопроса см.: Rüther. 1922. S. 44-87). Поскольку К. А. считал всякий грех результатом сознательного волевого выбора человека, он не допускал возможности перехода греховности или ответственности за грехи от родителей к детям (ср.: Clem. Alex. Strom. III 16. 100. 4-7; примечательно, что учение о родовой греховности младенцев (τὸ νήπιον οὐ προημαρτηκὸς... ἐν αυτῷ τὸ ἁμαρτῆσαι ἔχον; «младенец, не согрешивший ранее [лично], имеет в себе [склонность] согрешить»), крайнее близкое к представлениям, развитым впосл. блж. Августином, еп. Гиппонским, К. А. приписывает гностику Василиду: Ibid. IV 12. 82. 1-2). Наследием, распространяющимся от прародителей на всех людей, согласно К. А., является не сам грех, но ставшее его следствием отчуждение человека от Бога, которое способствует впадению в грех. Следуя рассуждениям ап. Павла (см.: Рим 7. 14-23; Гал 5. 16-25), К. А. полагал, что во всяком человеке противоборствуют разумная и неразумная части души, или «дух» и «плоть» (см., напр.: Strom. IV 6. 40. 2; 26. 165. 1; VI 16. 136. 2-3). Потеряв в результате греха Адама связь с Богом и лишившись истинного знания о Нем, разумная душа человека стала слабой и больной (см., напр.: Ibid. II 20. 109. 4; V 1. 7. 8; VII 7. 42. 7; Paed. III 12. 86. 2); она охотно подчиняется телесным страстям и легко склоняется к греху (см., напр.: Paed. I 8. 68. 1; Strom. III 14. 94. 3; ср.: Rüther. 1922. S. 60-63). При этом К. А. в полемике с гностиками подчеркивал, что ни тело, ни «плотский дух» сами по себе не являются причинами греха; они есть лишь средства, с помощью к-рых душа человека ищет и находит греховные удовольствия. Кроме того, по утверждению К. А., подобно тому как змей искушал прародителей в раю, злые силы постоянно искушают всякую душу, представляя ей всевозможные низменные удовольствия и убеждая предаться им (см.: Clem. Alex. Strom. II 20. 110-111). Однако, поскольку человек всегда обладает свободой, он может как совершить грех, так и отказаться от его совершения. Т. о., согласно К. А., ни тело, ни рождение сами по себе не греховны; никто не является грешником по рождению, но всякий человек заново проходит путь, пройденный Адамом: «Мы подпадаем под грех Адама из-за сходства греха (secundum peccati similitudinem)» (Idem. Fragm. 22 // Idem. Werke. 19702. Bd. 3. S. 208; Strom. III 16. 100. 7; ср.: Rüther. 1922. S. 76-79). В отличие от Адама, однако, все его потомки изначально находятся в состоянии отделенности от Бога и имеют намного меньше возможностей для успешной борьбы с грехом. Вследствие «неведения» (ἄγνοια; см.: Clem. Alex. Strom. V 10. 63. 8; VII 16. 101. 6; 102. 1), т. е. отсутствия у человека истинного знания о Боге и о собственной природе, душа человека пребывает в «заблуждении» (πλάνη; см.: Clem. Alex. Protrept. 1. 7. 4; 2. 12. 2); она уступает искушениям и оказывается в плену у страстей. По словам К. А., «есть два начала всякого греха - неведение и слабость», при этом из-за неведения человек следует ошибочным мнениям и не принимает истинные суждения, а из-за слабости не может осуществить даже то доброе, что намеревается сделать (Strom. VII 16. 101. 6-7; ср.: Ibid. II 15. 62. 1-4). Т. о., хотя потенциально у людей сохраняется свобода не совершать грех, в действительности все люди в той или иной мере оказываются грешниками. Признавая, что человек, сохраняющий природные дарования, уделенные ему как образу Божию, даже после грехопадения может исполнять заповеди Божии собственными силами и может стать «праведным» (см.: Clem. Alex. Strom. VI 6. 44. 4; Quis div. salv. 8; ср.: Rüther. 1922. S. 44-47), К. А. вместе с тем полагал, что отпавший от Бога человек не в состоянии собственными силами вернуться к единству с Богом и достичь духовного совершенства, т. е. стать спасенным и святым. Лишь Иисус Христос как воплощенный Логос оказывается «единственным безгрешным» (μόνος ἀναμάρτητος - Clem. Alex. Paed. III 12. 93. 3; ср.: Ibid. I 2. 4. 2); в силу этого, воссоединив в Себе Бога и человека, Он становится Освободителем, Учителем и Спасителем для всех людей (см.: Protrept. 11. 111-117).
Христология и сотериология
Рассматривая Боговоплощение как высшее проявление управляющего мирозданием и заботящегося о всем мире Промысла Божия, К. А. неизменно помещал христологические рассуждения в сотериологический контекст. Логос, «происшедший» от Отца «в начале» и как «творческая причина» сотворивший весь мир, есть носитель Божественной любви, руководствуясь которой Он желает явить Себя людям, открыть через Себя Отца и привести каждого человека к полноте богопознания и обожения (см.: Clem. Alex. Strom. V 3. 16. 5; Quis. div. salv. 37. 1-3). Воплощение Логоса К. А. не считал прямым следствием грехопадения: поскольку лишь Логос, восприняв человеческую природу, привел заключенный в ней образ Божий к полноте подобия Богу, Его воплощение как Посредника и Учителя есть часть вечного замысла Божия о человеке: «Давший жизнь в начале при создании как Творец, даровал благую жизнь, явившись как Учитель, чтобы в конце удостоить вечной жизни как Бог. Не только ныне впервые по причине нашего заблуждения сжалился Он над нами, но с самого начала [заботился о нас], ныне же, явившись [на земле], Он спас нас, уже погибших» (Protrept. 1. 7. 3-4). Отпадение человека от Бога, согласно К. А., не внесло изменений в благую волю Бога о человеке, которая нашла выражение в домостроительстве спасения: воплотившийся Логос стал для людей не только Учителем, но и Спасителем, избавившим человечество от власти греха (см.: Ibid. 11. 111. 2-3). При Воплощении Логос «родил Сам Себя» (αυτὸν γεννᾷ), т. е. добровольно облекся в плоть и претерпел телесное рождение от Девы, чтобы стать видимым для людей и предоставить им возможность познать Его как родственного им человека (Strom. V 3. 16. 5). К. А. подчеркивал, что Боговоплощение не является необходимостью для Бога, но есть знак любви Божией к человеку, проявившейся в добровольном самоуничижении (см. ст. Кеносис), а потому оно есть «вершина человеколюбия» Логоса (Paed. I 8. 62. 1). По словам К. А., Логос сошел на землю, облекся в человека и добровольно претерпел все свойственное людям с той целью, чтобы, «соразмерившись слабости, свойственной нам, тем, кого Он возлюбил, возвести нас до меры Его собственной силы» (Quis div. salv. 37. 3; ср.: Ibid. 1).
Воплотившийся Логос есть Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. Полагая, что Посредник между Богом и людьми должен быть причастен каждой из природ, между к-рыми Он выступает посредником, К. А. неоднократно выражал правосл. учение о реальном существовании 2 природ в едином Иисусе Христе. Так, говоря в «Педагоге» о Воплощении, К. А. назвал его «явственным таинством», поскольку благодаря ему «Бог [присутствует] в человеке и человек есть Бог; Посредник (μεσίτης) исполняет волю Отца, и Посредник этот - Логос, общий для двух [природ], ибо Он есть Сын Отца и Спаситель людей, Служитель Отца и Педагог для нас» (Paed. III 1. 2. 1). В «Увещевании к язычникам» К. А., говоря, что Иисус Христос есть явившийся людям Логос, отмечал, что «Он единственный есть оба - Бог и Человек» (ὁ λόγος, ὁ μόνος ἄμφω, θεός τε κα ἄνθρωπος - Protrept. 1. 7. 1). Наряду с этими вполне правосл. формулами у К. А. встречаются и менее удачные высказывания, из к-рых можно заключить, что Воплощение он понимал как «облечение» Логоса в человека: так, в «Педагоге» он утверждал, что Иисус Христос есть «непорочный Бог в виде человека» (θεὸς ἐν ἀνθρώπου σχήματι ἄχραντος; Paed. I 2. 4. 1); в «Строматах» типологически толковал перемену одежды Аароном (см.: Лев 16. 23-24) как указание на то, что Логос, нисходя в чувственный мир, снял одну одежду, т. е. ограничил свое беспредельное божество, и облекся в другую, т. е. в человеческую ограниченность (см.: Clem. Alex. Srom. V 6. 40. 3; ср.: Qius div. salv. 37. 3). Хотя подобные выражения, заимствованные К. А. из богословского языка ап. Павла (см.: Флп 2. 6-7; Еф 4. 20-24), могут быть поняты в монофизитском смысле (ср. ст. Монофизитство), К. А. никогда не разделял Иисуса Христа на два лица и не отрицал реальность Его человеческой природы; из его общих рассуждений о спасительной деятельности Иисуса Христа следует, что божественная и человеческая природы были соединены в одном действующем субъекте, т. е., на языке позднейшей правосл. христологии, в Лице Сына Божия. Не обсуждая специально вопрос о способе соединения божественной и человеческой природ в Иисусе Христе, К. А. указывал лишь на спасительное значение этого соединения; по его словам, Иисус Христос «во всем благодетельствует и во всем приносит пользу как Бог и как человек; как Бог он отпускает грехи, а как человек научает пути освобождения от грехов» (Clem. Alex. Paed. I 3. 7. 1).
По свидетельству свт. Фотия, патриарха К-польского, в «Очерках» К. А. утверждал, что «Логос не воплотился, но лишь казался [человеком]» (μὴ σαρκωθῆναι τὸν λόγον ἀλλὰ δόξαι; Phot. Bibl. 109); т. о., свт. Фотий полагал, что К. А. был сторонником докетизма (общий анализ см.: Ashwin-Siejkowski. 2010. P. 95-111; ср. также: Rüther. 1926). Некоторые основания для такого предположения могут быть обнаружены в сохранившихся сочинениях К. А. Так, в «Строматах» К. А., рассуждая о телесной жизни Иисуса Христа в контексте учения о гностическом совершенстве, к-рое предполагает освобождение от страстей и достижение бесстрастия, писал: «Было бы смешно думать, что тело Спасителя как тело нуждалось для поддержания существования в необходимом подкреплении; ведь Он ел не ради тела, которое содержалось святой силой, но для того чтобы окружающие не стали мыслить о Нем превратно, а именно, как позднее некоторые сочли, что Он явился лишь призрачно (δοκήσει); Он же был всецело бесстрастным, так что в Него не могло проникнуть никакое страстное движение, ни удовольствие, ни страдание» (Clem. Alex. Strom. VI 9. 71. 2). Считая бесстрастие одним из Божественных свойств Логоса, Который «безначально был бесстрастным» (ἀπαθοῦς ἀνάρχως γενόμενος; Ibid. VII 2. 7. 2), К. А. полагал, что при соединении с человеческой природой Логос не утратил бесстрастия, но, напротив, наделил им Иисуса Христа как человека, поэтому в силу ипостасного соединения с Логосом Иисус Христос был «бесстрастен душой» (ἀπαθὴς τὴν ψυχήν; Paed. I 2. 4. 1) и «целиком свободен от человеческих страстей» (Ibid. 2). Проблематичным является утверждение К. А. о том, что тело Иисуса Христа «поддерживалось святой силой» и не нуждалось в естественном питании; такое бесстрастное состояние тела не может быть естественным следствием душевного бесстрастия Иисуса Христа. Т. о., вероятнее всего, К. А. полагал, что тело Иисуса Христа стало преображенным и наделенным особыми свойствами не после воскресения, но при начальном соединении с Логосом. Вместе с тем, прямо отвергая классическое докетическое учение о призрачности тела Иисуса Христа, К. А. тем самым выражал правосл. учение о том, что это было реальное, а не кажущееся тело. В качестве возможного подтверждения предположения о докетическом характере христологии К. А. нек-рые исследователи рассматривали также передаваемый как церковное предание в лат. отрывке из «Очерков» рассказ о том, что рука ап. Иоанна Богослова, прикоснувшегося к телу Иисуса Христа, вошла в тело, не ощутив сопротивления твердой материи (см.: Clem. Alex. Fragm. 24 // Idem. Werke. 19702. Bd. 3. S. 210). Однако из этого рассказа, приводимого в качестве пояснения к словам: «...что осязали руки наши» (1 Ин 1. 1), не следует, что тело Иисуса Христа всегда было неосязаемым; речь может идти о единичном чудесном случае. Нет оснований полагать, что К. А. сомневался в реальности или полноте человеческой природы Иисуса Христа; подчеркивая, что уже во время земной жизни Иисуса Христа Его тело и душа обладали уникальными свойствами, К. А. при этом считал их истинными человеческими телом и душой (ср.: Quatember. 1946. S. 131). По словам К. А., «восприняв плоть, по природе являющуюся страстной», т. е. истинную человеческую плоть, Логос «воспитал ее до состояния бесстрастия», тем самым открыв путь к бесстрастию подражающим Ему в жизни христианам (Clem. Alex. Strom. VII 2. 7. 5; ср.: Сидоров. 1998. С. 118-120).
В рассуждениях К. А. о спасении выделяются 2 основные линии, соответствующие 2 частям спасительной деятельности Иисуса Христа: как Искупитель Он приносит Себя в жертву за человеческие грехи и добровольно претерпевает смерть; как Учитель Он просвещает людей, освобождает их от заблуждений, предлагает в Своем учении истинное знание о надлежащем пути уподобления Богу, а в Своей жизни - образец этого уподобления и пример для подражания. Рассмотрение спасения в искупительном аспекте у К. А. встречается редко; упоминания об искуплении и искупительной Жертве в его сочинениях по большей части связаны с соответствующими местами НЗ (см. ст. Искупление). По словам К. А., Иисус Христос по любви к людям «стал жертвой» (σπένδεσθαι; ср.: Флп 2. 17; 2 Тим 4. 6) и «предал Себя как выкуп» (λύτρον αυτὸν ἐπιδιδούς); исполняя волю Отца, Он «за каждого из нас отдал Свою душу, равную по ценности всему миру» (Clem. Alex. Quis div. salv. 37. 4; ср.: «Сын Человеческий... пришел... чтобы... отдать душу Свою для искупления многих (δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντ πολλῶν)» (Мф 20. 28; Мк 10. 45)). В «Педагоге» К. А. рассматривал жертвоприношение Авраамом его сына Исаака (см.: Быт 22. 1-19) как типологический прообраз искупительной Жертвы Иисуса Христа (см.: Clem. Alex. Paed. I 5. 23. 1-2; ср. также: Strom. II 5. 20. 2). По представлению К. А., между Исааком и Иисусом Христом есть как сходство, так и различие. Как и Исаак, Господь стал «жертвой» (ἱερεῖον), однако в отличие от Исаака, жертвоприношение к-рого было остановлено, Господь был действительно принесен в жертву (κεκάρπωται). Согласно К. А., то, что Исаак «не пострадал», может указывать на то, что он «уступил начаток страданий Господу»; вместе с тем то, что Исаак «не был заклан», может таинственно проображать божество Господа. Поясняя эту же аналогию, К. А. далее утверждал: «Ибо после погребения Иисус воскрес <как> не пострадавший (ἀνέστη γὰρ μετὰ τὴν κηδείαν ὁ ᾿Ιησοῦς <ὡς> μὴ παθών), подобно тому как Исаак был избавлен от принесения в жертву» (Paed. I 5. 23. 1-2). По предположению Штелина и др. исследователей, перед словами «не пострадавший» имеется смысловой пропуск (в 2 основных рукописях «Педагога», однако, в данном месте физической текстовой лакуны и к.-л. указаний на пропуск нет; см.: Mutin. gr. 126. Fol. 57r; Laurent. Plut. 5. 24. Fol. 18v), заполняемый издателями словом «как» или др. словами (Штелин, опираясь на Деян 2. 27, предложил эмендацию: «не претерпев тления», διαφθορὰν μὴ παθών; см.: Clem. Alex. Werke. 19723. Bd. 1. S. 104). Гипотеза о пропуске вызвана неясностью того, что именно К. А. хотел выразить словами «не пострадавший». По мнению одних исследователей, этими словами целиком отрицается то, что Иисус Христос реально претерпевал страдания, по мнению других - К. А. говорит лишь о том, что Логос, не испытавший страданий как Бог, воскресил единого с Ним Иисуса Христа как человека и сделал Его тело «как бы» не страдавшим, т. е. преображенным и прославленным (см.: Quatember. 1946. S. 129-131). Соотнесение отрывка из «Педагога» с др. высказываниями К. А. позволяет с уверенностью заключить, что он рассматривал смерть Иисуса Христа как спасительную жертву, однако вопрос о том, считал ли К. А. страдания Иисуса Христа реальными, является более сложным. Любая версия теопасхизма для К. А. была абсолютно неприемлема; он был убежден, что Логос, будучи Богом, не может претерпевать страданий ни в каком смысле. Однако, говоря о человеческой природе Иисуса Христа, К. А. со ссылкой на Евангелие утверждал, что Христос «пострадал за нас» (κάμνων ὑπὲρ ἡμῶν - Clem. Alex. Paed. I 9. 85. 1; ὑπὲρ ἡμῶν πέπονθεν - Ibid. I 8. 66. 2; см. также: Fragm. 28; ср.: Мф 20. 28; Мк 10. 45); упоминал о «священном страдании Господа» (Clem. Alex. Paed. II 8. 73. 3; ср.: Ibid. 3. 36. 2); отмечал, что Господь, «будучи Жизнью, пострадал [и] изволил пострадать (ἔπαθεν [κα] παθεῖν ἠθέλησεν) ради того, чтобы мы Его страданием (τῷ πάθει) получили жизнь» (Strom. IV 7. 43. 2; в рус. пер. Афонасина (Строматы. 2003. Т. 2. С. 24) смысл отрывка полностью искажен). Нек-рые исследователи видят противоречие между упоминаниями К. А. о страданиях Иисуса Христа и представлением о свойственном Ему бесстрастии. В действительности противоречие здесь лишь внешнее; вероятнее всего, К. А., следовавший стоическим представлениям о соотношении тела, души и ума, полагал, что страдания Иисуса Христа были истинными, однако Он претерпевал их лишь телом и телесным духом, тогда как Его разумная душа, преображенная благодаря единству с Логосом, оставалась невозмутимой и бесстрастной (ср., напр.: SVF. III 416, 448; подробнее об интерпретациях бесстрастия Иисуса Христа у К. А. и в последующем православном богословии см.: Spanneut. 2002). Недостатком такого философского объяснения является затруднительность его согласования с евангельским повествованием; так, напр., слова Иисуса Христа: «Душа Моя скорбит смертельно» (περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου; Мф 26. 38; Мк 14. 34), предполагают реальность переживаемого высшей частью души страдания (скорби), тогда как в рамках предлагаемой К. А. концепции бесстрастия они могут быть поняты лишь как внешнее выражение Иисусом Христом того состояния, к-рое Он в действительности не переживал (ср.: Clem. Alex. Strom. VI 9. 71. 2).
Хотя К. А. не рассуждал специально о том, была ли искупительная Жертва необходимой для совершения спасения и кому она была принесена, из его общих замечаний можно заключить, что Жертва являлась добровольным принятием Иисусом Христом на Себя страданий за грехи, к-рые надлежало понести всем людям; т. о., вероятно, К. А. понимал принесенную на Кресте Жертву в качестве заместительной (см., напр.: Clem. Alex. Strom. IV 12. 87. 2; V 10. 66. 5; VII 3. 14. 5), однако не рассматривал ее как необходимое удовлетворение Богу (ср.: Rüther. 1922. S. 97-99). Говоря о спасительных плодах искупления, К. А. утверждал, что христиане «кровью Господа избавлены от тления» (Clem. Alex. Paed. I 5. 23. 2; ср.: Protrept. 11. 111. 2; 12. 118. 4). При этом он указывал на различие между «плотской кровью» и «духовной кровью»; первую Иисус Христос пролил на Кресте, освободив ею людей от тления, а вторую Он подает всем христианам как «благодатное помазание», делая их участниками Своего нетления (см.: Paed. II 2. 19. 4). Крестными страданиями и добровольной смертью Иисус Христос освободил человека от власти соблазнов и грехов, обессилил диавола и победил смерть (см.: Ibid. 8. 74. 3; Protrept. 11. 111. 2-3). Воскреснув, Господь открыл людям путь к вечной жизни: «Он умер за нас и воскрес вместе с нами» (Quis div. salv. 33. 6; ср.: Protrept. 2. 27. 2; близкую формулировку ранее использовал сщмч. Поликарп, еп. Смирнский: Polycarp. Ad Phil. 9. 2). Согласно К. А., первоначальное приобщение христиан к искупительной части спасения происходит в церковных таинствах: Крещении и Евхаристии (см.: Paed. I 6); благодаря телесному и духовному участию в них человек приобретает «сродство» (συγγένεια) с Иисусом Христом (см.: Ibid. 6. 49. 3-4), к-рый как Логос наставляет и вразумляет его, а как Св. Дух подкрепляет благодатными дарами (см.: Ibid. 43. 2-4).
Рассматривая спасительную деятельность Иисуса Христа в учительном аспекте, К. А. опирался на представление о том, что достижение подобия Богу и обожения является предначертанной Богом целью человеческой природы. Перефразируя формулировку, неоднократно встречавшуюся ранее у сщмч. Иринея, еп. Лионского (см.: Iren. Adv. haer. III 19. 1; ср.: Ibid. 18. 7; 20. 2), К. А. утверждал: «Логос Бога стал человеком, чтобы ты научился у человека, как человек может стать богом» (Clem. Alex. Protrept. 1. 8. 4). Согласно К. А., учительство Логоса есть важнейшая часть спасения, поскольку в результате грехопадения человек лишился истинного знания о цели жизни и способах ее достижения. Осуществляя учительство как Спаситель, Логос открывает человеку теоретическое знание о Боге и показывает путь практического соединения с Богом. Поскольку в Иисусе Христе человеческая природа уже приведена в полное подобие Богу, подражая Его жизни и следуя Его учению, человек соединяется с Ним и через Него уподобляется Богу. Разделяя во введении к «Педагогу» спасительную деятельность Логоса как Наставника на неск. этапов, К. А. подчеркивал, что единый Логос искусно ведет человека к спасению, постепенно преподавая ему необходимое знание. В первоначальном увещевании, т. е. в евангельской проповеди, Он предлагает ему для принятия истинное откровение о Боге и Его отношении к человеку; затем Он выступает как Врач, показывая человеку, каким образом может быть приобретено исцеление от страстей, и как Педагог, научая надлежащему устроению практической жизни и приучая укрощать телесные страсти с помощью разума; наконец, Он становится Учителем, открывающим духовный смысл Свящ. Писания и возводящим человека от земной к небесной жизни (см.: Paed. I 1. 1. 1 - 3. 3). При этом учение Логоса не является некой абстракцией, т. к. практическое воплощение содержания этого учения явлено в Иисусе Христе; хотя К. А. сравнительно редко обращался к рассмотрению описанных в Евангелиях событий земной жизни Спасителя, он был убежден, что Его жизнь есть безусловный и высший образец для всякого христианина (cр.: Marrou. 1960. P. 60-61; Behr. 2000. P. 166).
К. А. подчеркивал всеобщность спасения, предлагаемого воплотившимся Логосом, Который есть «вездесущий Cвет, сияющий для всех людей» (Clem. Alex. Protrept. 9. 88. 2). Спасительное действие Иисуса Христа, согласно К. А., имеет сверхвременной характер и распространяется в т. ч. на живших до Его пришествия на землю праведников. Ссылаясь на «Пастырь» Ермы, К. А. в «Строматах» приводил предание о том, что апостолы после смерти проповедовали Иисуса Христа среди праведников, почивших до Его явления на земле (см.: Strom. II 9. 43. 5 - 44. 3; VI 6. 44. 5 - 46. 5). К. А. отмечал, что и Сам Господь «проповедовал Евангелие находящимся в аду» (Ibid. VI 6. 44. 5; 46. 2). Целью этой проповеди было «привести к обращению тех, кто жили в праведности, согласной с законом (т. е. с заповедями ВЗ.- Авт.) или с философией (т. е. с естественным нравственным законом.- Авт.), однако не имели совершенства, поскольку их жизнь была сопряжена со грехом (ἁμαρτητικῶς διαπεραναμένους τὸν βίον)» (Ibid. 45. 5). Т. о., согласно К. А., все люди, стремившиеся по мере собственных сил к праведности до явления Иисуса Христа, как иудеи, так и язычники, были просвещены и спасены Им при сошествии во ад (Ibid. 46. 2-4). Ведя полемику с гностиками, полагавшими, что спасение доступно лишь немногим избранным по природе людям, К. А. настаивал на том, что с объективной т. зр. спасение в равной мере предлагается всем людям. По словам К. А., Иисуса Христа неправильно называть Спасителем, если Он спасет лишь немногих: «Разве может Он быть Спасителем и Господом, если Он не для всех Спаситель и Господь?.. Он есть Спаситель всех, а не только некоторых» (Ibid. VII 2. 7. 6; 2. 6. 6). Божественный Логос «обращается ко всем без исключения», однако не все люди откликаются на Его призыв и желают следовать предлагаемым спасительным путем. По словам К. А., сам человек должен принять решение о том, станет ли он повиноваться или противиться Богу (см.: Clem. Alex. Strom. II 6. 26. 3).
Первичное решение человека довериться Богу и принять Его учение К. А. отождествлял с верой, понимаемой в смысле стоического «согласия», которое имеет свободную, а не необходимую природу (см.: Ibid. 3. 11. 1-2). Для возникновения веры требуется «слышание» (ср.: Рим 10. 14-17), т. е. обращение Бога к человеку, происходящее через «слово Божие», т. е. Свящ. Писание и евангельскую проповедь, однако сам акт принятия верой откровения в качестве руководства для жизни есть свободное дело человека, а не дар Бога. Используя образ игры в мяч, К. А. отмечал, что для нее недостаточно одного игрока, но требуется второй игрок, ловящий бросаемый ему мяч. Точно так же спасительный дар Божий может быть усвоен лишь добровольно принимающим его человеком (Clem. Alex. Strom. II 5. 25. 1-4). В рассуждениях о соотношении призывающего действия Бога и ответного действия человека К. А. первым из церковных писателей стал использовать понятие «синергия» (συνεργία; в схожем значении у К. А. употребляются и нек-рые однокоренные именные и глагольные формы; см., напр.: Ibid. VII 6. 46. 5; 48. 4), впосл. закрепившееся в правосл. этике и аскетике. Говоря о синергии, К. А. в отличие от нек-рых последующих церковных писателей понимал ее в смысле содействия человека Богу и не говорил о содействии Бога человеку (см.: Behr. 2000. Р. 167-168). Подобная особенность словоупотребления имеет философские основания: согласно логическим выпискам К. А. в 8-й кн. «Стромат», «содействующая причина» - это причина, которая не может достичь результата сама и действует вместе с некой более высокой и сильной причиной. Высшая причина не нуждается для достижения результата в содействии низшей причины, однако при присоединении низшей причины достигаемый результат, оставаясь тем же по сущности, становится более сильным (см.: Clem. Alex. Strom. VIII 9. 33. 7-9; ср.: Ibid. I 20. 99. 2; вероятно, такое представление о содействующей причине восходит к некоему стоическому источнику). При приложении к богословию спасения это означает, что Бог может спасти человека без его содействия и спасает его Своей силой, а не силой человека, однако соучастие в процессе спасения преображает человека и тем самым внешний акт спасения обогащается внутренним спасительным изменением в человеке. Наделив при творении человека разумом и волей, Бог требует от него сознательного и волевого участия в спасении: «Спасаемый будет спасен не без [собственной] воли (ἄκων), ибо он не бездушен; напротив, он должен добровольно (κουσίως) и по собственному решению (προαιρετικῶς) стремиться к спасению» (Ibid. VII 7. 42. 4). Лишь после того, как человек принял твердое решение верить Богу и послушно исполнять Его волю, Бог дарует человеку благодатную поддержку: «Как врач помогает обрести здоровье тому, кто стремится выздороветь, так и Бог предлагает вечное спасение тем, кто содействуют Ему (τοῖς συνεργοῦσι), участвуя в собственном движении к гносису и добродетели» (Ibid. 48. 4). После того как человек начал «содействовать» Богу, Бог становится «сотрудником» (συλλαμβανόμενος) человека, заслужившего Его помощь собственными усилиями (Ibid. 2). Не всегда используя понятие «благодать» (см., однако: Ibid. V 1. 7. 3), К. А. при этом понимал подаваемую от Бога помощь как особое действие Св. Духа. Так, по выражению К. А., результатом приобретения твердой веры является «усвоение Святого Духа как личного качества» (ἁγίου πνεύματος χαρακτηριστικὸν ἰδίωμα - Ibid. VII 16. 134. 2 ), т. е. постоянная причастность благодатному Свету Логоса, «нераздельно разделяемому Духу Господню» (Ibid. VI 16. 138. 2), Который «поселяется» в душе человека, но остается при этом единым и беспредельным (Ibid. 15. 120. 2; см. также: Ibid. V 14. 98. 4; VII 11. 64. 7; 13. 82. 3-4; ср.: Rüther. 1922. S. 103-106). При этом у К. А. подаваемая Богом благодать всегда является неразрывно связаной с приобретаемой самим человеком добродетелью; так, цитируя известные слова ап. Павла: «Благодатью вы спасены» (Еф 2. 5), К. А. прибавляет к ним собственное пояснение: «...но не без добрых дел» (Clem. Alex. Strom. V 1. 7. 2). В спасительном процессе Бог всегда воздействует на человека Своим промыслительным руководством и неизменно остается первичным действующим началом, однако Он не желает спасать человека без постоянного свободного содействия со стороны человека (ср.: Rüther. 1922. S. 106). Т. о., К. А. представлял субъективное спасение как динамическое развитие взаимодействия Бога и человека в цельном процессе, состоящем из нескольких стадий: 1) желание спасения со стороны человека; 2) призвание со стороны Бога; 3) принятие Божия призыва человеком в акте веры; 4) содействие Богу, т. е. волевое следование Божиим заповедям; 5) дарование благодатной помощи Св. Духа, просвещающей и укрепляющей человека; 6) полное согласие и совпадение Божественных воли и действия с человеческими волей и действием при достижении человеком совершенства и обожения; в последующей правосл. традиции это согласие было понято как отображение ипостасного единства божественной и человеческой природ в Иисусе Христе (подробнее о теме воли и благодати у К. А. см.: Havrda. Grace and Free Will. 2011; ср. также.: Behr. 2000. P. 167-170).
Христианская жизнь и ее цель
Поскольку реализация предоставленной Иисусом Христом возможности спасения определяется как первичным свободным выбором человека, так и его последующими личными практическими действиями, осуществляемыми под руководством наставляющего Логоса, важное место в философско-богословских рассуждениях К. А. занимает разработка учения о том, каким образом человеку надлежит использовать открытое Логосом истинное знание в сфере практической жизни. При рассмотрении этических и аскетических вопросов К. А. в значительной мере опирался на стоическое учение, из которого им были взяты основные этические понятия и их определения; использовал он и некоторые идеи Филона Александрийского. Строение этического учения К. А. задается представлением о 2 уровнях нормативной практической жизни, которое было заимствованно им у Филона (см.: Philo. Leg. all. III 129, 132): 1-й уровень, достижение к-рого необходимо каждому христианину для спасения, у К. А. характеризуется понятием «умеренность в страстях» (μετριοπάθεια); 2-й уровень, к-рого достигают стремящиеся к высшему гносису христиане, К. А. обозначал понятием «бесстрастие» (ἀπάθεια). Т. о., учение К. А. о практике христ. жизни делится на 3 основные части: 1) аскетическое учение о природе страстей и способах восстановления надлежащего соотношения чувственного и разумного начал в человеке; 2) учение о практическом гностическом совершенстве как уподоблении Богу посредством приобретения бесстрастия; 3) учение об обожении как о высшей цели христианина.
I. Умеренность в страстях. В основе учения К. А. о страстях лежит представление о том, что человеческому рассудку (διάνοια; К. А. считал рассудок высшей частью «телесного духа», своего рода посредником между ним и «разумным духом», т. к. последний принимает решения на основании предлагаемых ему рассудком данных; см.: Clem. Alex. Strom. VI 16. 135. 4; 136. 1; ср.: Lilla. 1971. P. 85-86), ответственному за руководство практической деятельностью, по природе свойственно «стремление» (ὁρμή; в рус. традиции это стоическое понятие передается и др. терминами: «побуждение», «влечение», «импульс» и т. п.; см., напр.: Diog. Laert. VII 1. 110; SVF. III 377), направляющее деятельность человека к некой полагаемой рассудком естественной цели. По словам К. А., «стремление - это порыв (φορά) рассудка к чему-то или от чего-то» (Clem. Alex. Strom. II 13. 59. 6). Будучи подчинен разумной части души, рассудок разумно распределяет стремления так, чтобы они служили поддержанию гармоничной естественной жизни человека; в этом случае стремления являются нравственно безразличными. Однако если иерархическое отношение разума и рассудка нарушается (для стоиков это происходит по причине личной слабости человека, а для К. А. это есть следствие грехопадения), стремления, опираясь на побуждения, исходящие от тела и низших частей телесного духа человека, завладевают человеческим разумом и подчиняют себе его деятельность, тем самым превращаясь в страсти. Т. о., согласно предлагаемым К. А. определениям, по смыслу и по лексике совпадающим с традиц. стоическими определениями, страсть (πάθος) есть «чрезмерно сильное стремление, превосходящее разумную меру (τὰ κατὰ τὸν λόγον μέτρα)»; «стремление, выходящее из-под власти разума и непокорное ему»; «противоестественное (παρὰ φύσιν) движение души, связанное с [ее] непокорностью разуму» (Ibidem; ср.: SVF. I 205-206; III 462, 479). Страсть в этическом смысле для К. А., как и для стоиков, не тождественна «страсти» как «страданию», т. е. физическому и духовному претерпеванию некоего внешнего воздействия, хотя в греч. языке для их обозначения используется одно слово πάθος и связанные с ним именные и глагольные формы. Этическая страсть - это свойство души, добровольно отказывающейся от повиновения разуму, «неразумное влечение» (Clem. Alex. Strom. II 13. 59. 6). Будучи искажением естественных стремлений, страсти имеют сходную с ними природу и подразделяются в соответствии с естественными силами телесного духа; поэтому, как и стоики, К. А. выделял 3 главные страсти, являющиеся родами для частных страстей: вожделение (ἐπιθυμία), наслаждение (ἡδονή), гнев (ὀργή), понимая их в соответствии с общим определением страсти как неразумные движения, искажающие естественные влечения, необходимые для поддержания жизни (см.: Ibid. VI 16. 136. 1; II 20. 119. 1-3; ср.: Behr. 2000. P. 147-148). Наряду с этой К. А. использовал и др. стоическую классификацию страстей, в к-рой страсти соотносились с неразумными эмоциональными состояниями человека: радостью, печалью, страхом и т. д. (см., напр.: Clem. Alex. Paed. I 13. 101. 1; Strom. II 7. 32. 3). Страсти 1-й группы в большей степени связаны с телесной частью души, а страсти 2-й группы - с разумной частью. Понимая борьбу со страстями как длительный процесс, К. А. полагал, что очищению от страстей разума должно предшествовать достижение умеренности в телесных страстях, при осуществлении к-рого эмоциональные страсти могут приносить относительную пользу. Так, страх наказания (земного или небесного), будучи по природе эмоциональной страстью, может способствовать отказу человека от греховных наслаждений. Т. о., на этапе приобретения умеренности в страстях происходит освобождение от низших телесных страстей, тогда как высшие эмоциональные страсти искореняются в ходе последующего движения гностика к полному бесстрастию (см.: Strom. II 8. 39. 1 - 40. 3).
Подробное изложение методики достижения умеренности в телесных страстях К. А. представил во 2-й и 3-й книгах «Педагога» и во 2-й и 3-й книгах «Стромат» (общий анализ см.: Quatember. 1946. P. 109-122; Behr. 2000. P. 159-166). Приспосабливая стоические и платонические нравственные руководства для нужд христианской аскетики, К. А. стремился продемонстрировать ошибочность 2 этических крайностей: радикального ригоризма сторонников жесткого аскетизма (в т. ч. энкратитов), полагавших, что источником всех страстей является телесное начало в человеке, к-рое должно быть полностью «умерщвлено» путем аскезы, и неограниченного либертинизма, свойственного представителям некоторых гностических групп, к-рые, считая себя «избранными по природе», отказывались от всякой аскетики и любых этических ограничений. Согласно К. А., следовавшему аристотелевскому представлению о добродетели как о середине (μεσή) между 2 крайностями (см., напр.: Arist. EN. II 5. 1106b), при разумном обуздании страстей надлежит стремиться к достижению «среднего состояния» (ἡ μέση κατάστασις), которое и есть искомое «благо», тогда как крайности «всегда опасны» (см.: Clem. Alex. Paed. II 1. 16. 4; ср.: Lilla. 1971. P. 64-65). Это означает, что под руководством просвещенного Логосом разума страсти должны быть возвращены из крайности необузданных и неразумных желаний к изначальному состоянию природных стремлений; однако, чтобы не впасть в противоположную крайность, сами эти стремления не следует чрезмерно подавлять, поскольку они заложены в природе человека, сотворенной Богом благой и гармоничной. При определении того, что является «серединой» в каждом случае, человек призван руководствоваться «природной необходимостью», т. е. представлением о том, что ему требуется для поддержания природной жизни, а что является излишеством, и должен «довольствоваться желаниями, соизмеренными с природой (κατὰ φύσιν) и не уступать желаниям, превышающим природу или противящимся природе (παρὰ φύσιν), поскольку из них и возникает греховность (τὸ ἁμαρτητικόν)» (Clem. Alex. Strom. II 20. 109. 1; ср. также: Clem. Alex. Paed. II 1. 16. 4). Т. о., вся практическая жизнь человека призвана стать «следованием природе»; К. А. считал, что в традиц. стоическом понимании этого тезиса неоправданно разделяются природа и Бог (см.: Strom. II. 19. 101. 1), однако использовал такую же формулировку в христианизированном виде (см.: Paed. II 10. 95. 3). Как и Филон Александрийский, К. А. отождествлял следование природе и следование «истинному разуму» (λόγος ὀρθός), т. е. природному закону, установленному Богом. При этом в христианской этике К. А. «истинный разум» и «природа» отождествляются с законом Логоса, Который есть Создатель, установивший естественный закон, и Промыслитель, давший людям спасительные заповеди (см., напр.: Strom. I 25. 166. 4-5; 29. 182. 1-2; II 22. 134. 2; ср.: Lilla. 1971. P. 92-95).
Стремясь к умеренности в страстях, христианин приобретает отдельные добродетели; в рассуждениях о них К. А. использовал разработанное в греч. философии представление о 4 высших добродетелях: рассудительности, мужестве, целомудрии, справедливости (см.: Clem. Alex. Strom. II 18. 78. 1 - 96. 1). Поскольку все добродетели обладают «взаимосвязью» (ἀντακολουθία), т. е. сопутствуют друг другу и находятся во взаимном согласии, при их приобретении достигается добродетель как устойчивое состояние души (см., напр.: Ibid. 9. 45. 1; IV 26. 163. 3-4; общий обзор интерпретации добродетелей у К. А. см.: Lilla. 1971. P. 72-84; Сидоров. 1998. С. 129-135). Совмещая в учении о добродетели стоические и аристотелевские мотивы, К. А. определял добродетель в целом как «согласное с разумом расположение (διάθεσις) души, проявляющееся во всей жизни» (Clem. Alex. Paed. I 101. 2; ср.: Ibid. 102. 4; ср.: Lilla. 1971. P. 61-64). Так понимаемая добродетель тождественна практически реализованному человеком в собственной жизни закону Логоса и потому является «самодостаточной» для счастья; обладающий ею человек обретает полную свободу от внешних обстоятельств жизни (см.: Clem. Alex. Strom. IV 7. 52. 1-3). Возражая сторонникам чрезмерного аскетизма, К. А. настаивал на том, что достижение состояния пребывания в добродетели само по себе является спасительным, хотя христ. движение к совершенству этим не заканчивается (см.: Ibid. VI 14. 111. 3; ср.: Behr. 2000. P. 167, 188-189). Согласно К. А., достигший добродетели человек неизбежно движется к дальнейшему уподоблению Богу, однако у большинства людей это движение происходит медленно: в земной жизни они остаются на уровне умеренности в страстях, а полноты совершенства достигнут в буд. небесной жизни. Т. о., вопреки мнению Лиллы (см.: Lilla. 1971. P. 103), К. А. не принимал элитаризма и дуализма гностиков и показывал, что путь практической аскетики и путь гностической этики - один и тот же путь, ведущий к единой цели, а все различия между движущимися по нему людьми обусловлены не их разной природой, но лишь разной интенсивностью их личных усилий в уподоблении Богу, приводящей к различию получаемой награды: «Быть спасенным и получить после спасения наивысшую честь - это нечто большее, чем просто быть спасенным» (Clem. Alex. Strom. VI 14. 109. 2; см. также: Ibid. 111. 3; ср.: Behr. 2000. P. 188).
II. Практика гностической жизни. Рассуждая о практической стороне гностического движения к совершенству, К. А. исходил из представления о том, что истинный гносис неотделим от добродетельной жизни. Согласно К. А., никто не может быть гностиком по природе или в силу некоего внешнего сверхъестественного воздействия, как думали представители еретического гностицизма. Хотя гносис есть подаваемый Богом дар, человек сам добивается этого дара и сам усваивает его. По словам К. А., истинный гностик есть «образ и подобие Божие», поэтому он подражает Богу, насколько это возможно, и не пренебрегает ничем из того, что может усилить его подобие Богу: «Он воздержан, терпелив, живет праведно, господствует над страстями, делится с другими тем, что имеет, по мере сил благотворит и словом и делом» (Clem. Alex. Strom. II 19. 97. 1). Лишь приобретя устойчивое пребывание в добродетели при помощи умеренности в страстях, гностик может двигаться далее, к высшему бесстрастию. К. А. соотносил эти 2 состояния не как 2 разделенных и самостоятельных процесса, но как уровни единого процесса, ясно утверждая, что гностик, «сперва добившись умеренности в страстях» (μετριοπαθήσας τὰ πρῶτα), затем, «устремившись к бесстрастию (εἰς ἀπάθειαν μελετήσας) и возрастая в добродетели гностического совершенства», может стать «равным ангелам» (ἰσάγγελος) в силу приобретенного бесстрастия (Clem. Alex. Srom. VI 13. 105. 1; ср.: Ibid. 8. 74. 1).
Указывая на особый характер деятельности, ведущей к гностическому совершенству, К. А. отмечал, что если для обычной христ. этики нормативным является «среднее действие», то гностик действует, ориентируясь на абсолютный этический идеал; для обозначения этого принципа деятельности К. А. использовал стоическое понятие «совершенное действие» (κατόρθωμα; см.: Clem. Alex. Strom. VI 14. 111. 3; ср.: Lilla. 1971. P. 103). Согласно К. А., к необходимому каждому христианину твердому пребыванию в добродетели, основывающемуся на вере, у стремящихся к гностическому совершенству добавляются «обучение» (μάθησις) и «аскеза» (ἄσκησις), к-рые являются теоретической и практической частями единого пути к гносису (см.: Clem. Alex. Strom. II 9. 45. 1; ср.: Ibid. IV 6. 39. 1). В процессе обучения происходит постепенное приобретение гностического знания и осуществляется переход от «простой веры» к «гностической вере» и «верующему гносису». Этому теоретическому процессу соответствует аскеза как практическое «упражнение в добродетели», целью к-рого является полное подчинение телесного начала разумному и освобождение души от всех страстей, т. е. достижение бесстрастия (см., напр.: Ibid. VII 3. 13. 3).
Признание бесстрастия этическим идеалом напрямую следовало из представления К. А. о том, что процесс достижения гностического совершенства - это процесс уподобления бесстрастному по природе Богу; в соответствии с этим состояние бесстрастия, к к-рому призван стремиться гностик, описывается у К. А. посредством последовательного перенесения свойств Бога в сферу душевной жизни человека и устранения из нее тех элементов, к-рые не могут быть свойственны Богу. Обращаясь к созерцанию Бога как высшего образца, гностик уничтожает в себе раздражение, гнев, страх, вожделение, радость, печаль, смелость, привязанность к чему-либо или к кому-либо и т. д. (см.: Ibid. VI 71. 3 - 73. 6; ср.: Spanneut. 2002. P. 248). При этом гностик делает это не из-за того, что он относится с презрением к нравственно положительным человеческим действиям и естественным чувствам, но ради достижения более высокой цели (см.: Clem. Alex. Strom. IV 23. 147. 1 - 149. 1; ср.: Behr. 2000. P. 189). Достигнув бесстрастия, гностик освобождается от всех чувств (телесных страстей) и эмоций (душевных страстей), даже от тех, к-рые признаются положительными в рамках обычной этики (Clem. Alex. Strom. VI 9. 74. 1). Пока он живет в теле, его телесные стремления сохраняются, однако они не выходят за рамки естественного поддержания жизни тела и не затрагивают разум (Ibid. 75. 3). Живя в теле, он вместе с тем уже на земле становится «бестелесным» и душой живет «превыше земли» (Ibid. VII 14. 86. 7), пребывая в состоянии непоколебимого внутреннего мира и покоя (см.: Ibid. IV 6. 40. 3; ср.: Mayer. 1942. S. 53-56). К. А. подчеркивал, что достижение бесстрастия как полного освобождения от всех страстей превышает человеческие силы; если победы над отдельными страстями могли добиться даже язычники, то бесстрастие - это дар Св. Духа, подаваемый от Бога трудящимся для его приобретения христианам (см.: Clem. Alex. Quis div. salv. 21. 1-2). Достижение бесстрастия делает человека «монадным» (см.: Strom. IV 23. 152. 1), т. е. цельным; употребляя по отношению к гностику термин, используемый им также для характеристики Логоса, К. А. подчеркивал, что достигший бесстрастия тем самым достигает и уподобления Богу (ср.: Spanneut. 2002. P. 255-256).
Говоря о бесстрастии как о высшем этическом состоянии гностика, К. А., однако, не понимал бесстрастие как полное прекращение всякой личной активности человека. В учении К. А. о гностическом совершенстве бесстрастие как отрицательный идеал соотносится с положительным идеалом - «любовью» (ἀγάπη). К. А. рассуждал о ней в 2 основных смыслах: 1) как о средстве достижения совершенства и гносиса; утверждая, что совершенство верующего превращается в совершенство гностика «посредством любви» (Clem. Alex. Strom. VII 14. 84. 2), а также, что «гносис сохраняется неизменным посредством любви» (Ibid. VI 9. 78. 4; ср. также: II 12. 52. 1-5; IV 22. 136. 5); 2) как о состоянии, свойственном душе совершенного гностика, отмечая, что гносис «переходит в любовь, связывающую любящего с любимым и познающего с познаваемым» (Ibid. VII 10. 57. 4). Подобная двойственность соответствует двойной природе любви: на начальной стадии движения к гносису она вместе с верой и надеждой является движущей силой, т. е. началом, побуждающим гностика уподобляться Богу, тогда как при достижении этого уподобления любовь превращается из стремления в постоянное свойство души. Именно в любви гностик достигает «сближения» (οἰκείωσις) с Богом и становится другом Божиим; благодаря достигнутому состоянию любви он «уже ни к чему не стремится, так как обладает тем, к чему стремился, насколько это возможно» (см.: Clem. Alex. Strom. VI 9. 73. 3-6), «непрестанно и ненасытно вкушая неистощимую радость созерцания» (Ibid. 75. 1). К. А. указывал и на эсхатологическое измерение любви, отмечая, что благодаря любви предвкушаемое будущее, т. е. полнота обожения, становится для гностика настоящим (Ibid. 77. 1-2; ср.: Behr. 2000. P. 202-203).
Указание на то, что гностик пребывает в постоянном личном общении с Богом, соединяясь с Ним в любви и созерцании, является принципиальным отличием между предлагаемым К. А. изображением христианского гностика и представлениями о достигших совершенства мудрецах, существовавшими в греч. философских школах (ср.: Spanneut. 2002. P. 256-260). Свойственное совершенному гностику состояние постоянного богообщения К. А. рассматривал в контексте подробных рассуждений о гностической молитве (см.: Clem. Alex. Strom. VII 7. 35. 1 - 49. 8; анализ см.: Békés. 1947; Robertson. 2008. Р. 38-43). Согласно К. А., гностик убежден, что Бог всегда рядом и всегда близок, и поэтому славит Его во всех делах, как во время молитвословий, так и во время разговора, в молчании, прогуливаясь, путешествуя и т. д. (Clem. Alex. Strom. VII 7. 35. 5-6; 49. 3-7). К. А. отмечал, что Бог не нуждается в обладании слухом, чтобы услышать молящегося, и потому возносимые к Нему молитвы не обязательно должны быть облечены в слова (Ibid. 43. 3-5). Бог слышит внутреннюю речь человека и знает его мысли, поэтому гностик стремится наполнить все свое мышление памятью о Боге; он не отводит для общения с Богом в молитве лишь определенные часы, но общается с Ним в течение всей жизни, стремясь через внутреннюю молитву достичь единства с Богом (Ibid. 40. 3). Гностик не просит у Бога чего-то необходимого для жизни или каких-то благ, к-рых у него нет, но просит, чтобы истинные блага его души оставались пребывать с ним; «более всего же он молит [Бога] о том, чтобы в наивысшей возможной степени стать подобным Ему, чтобы достичь славы Божией, совершенство которой заключается в чистом познании» (см.: Ibid. 44. 3-5). Т. о., созерцательная молитва гностика становится «праздником» (ορτή) богообщения, наполняющим всю его жизнь, непрестанным благодарением и созерцанием, которые соединены с любовью (см.: Ibid. 35. 6-7; ср.: Behr. 2000. P. 193-195).
Уподобляясь Богу в любви, истинный гностик, по утверждению К. А., осознает необходимость практического проявления этой любви; т. о., следствием постоянного состояния любви к Богу становится «благотворение» (εὐποιΐα; см., напр.: Clem. Alex. Strom. II 19. 102. 2; VI 7. 60. 3; 20. 135. 4). Подражая «благотворению» Господа (Ibid. IV 6. 29. 4), человек делается «инструментом преблагого Бога» (VII 13. 81. 7). Т. о., христ. гностик не замыкается в индивидуальном созерцании Бога, но стремится привести к Богу и возвысить до достигнутого им богопознания своих братьев, т. е. др. христиан; осуществляя эту деятельность, он сослужит ангелам (см.: Ibid. 1. 3. 2-5). Согласно К. А., состояние совершенного гностика характеризуется соединением 3 элементов, без любого из к-рых гносис не является совершенным: созерцанием, исполнением заповедей и наставничеством (Ibid. II 10. 46. 1; VI 1. 4. 2). Поэтому христ. гностик призван заниматься «воспитанием добродетельных мужей» (Ibidem). «Используя собственное спасение для пользы ближних», т. е. передавая им приобретенный им теоретический и практический гностический опыт, «образовывая и преобразовывая» их, «обновляя их для спасения», гностик в своей наставнической деятельности становится «одушевленной статуей Господа», поскольку уподобляется Иисусу Христу в деятельности проповедника истины (Ibid. VII 9. 52. 1-3; ср.: Mayer. 1942. S. 56-58; Behr. 2000. P. 198-199).
III. Обожение как высшая цель христианской жизни. Исходя из представления о том, что сотворенный по образу Божию человек призван обрести подобие Богу, К. А. считал общей задачей человеческой природы «уподобление Богу» (ὁμοίωσις θεῷ; выражение заимствовано у Платона, см.: Plat. Theaet. 176b; ср.: Clem. Alex. Strom. II 19. 100. 3; 22. 131. 5-6). Говоря о предельной сотериологической и эсхатологической цели этого уподобления (ср.: Clem. Alex. Strom. VII 1. 3. 6), К. А. первым из христ. авторов стал использовать ряд слов и понятий, лексически связанных со словом «бог» и выражающих идею «становления богом» (θεοποιέω), т. е. обожения (cм., напр.: Clem. Alex. Protrept. 9. 87. 1; 11. 114. 4; Paed. I. 12. 98. 3; Strom. IV 23. 152. 1; Quis div. salv. 19. 5; общий анализ темы обожения у К. А. см.: Butterworth. 1916; Völker. 1952. S. 597-609; Lilla. 1971. P. 106-117; Choufrine. 2002; Russell. 2004. P. 121-140; Шуфрин. 2009).
Согласно К. А., процесс подражания и уподобления Богу в единстве его теоретической (гносис как богосозерцание) и практической (бесстрастие, любовь и благотворение) сторон приводит человека к состоянию, в к-ром все его свойства и качества становятся отображением свойств Божиих (см., напр.: Clem. Alex. Strom. VI 17. 150. 3). Достигший этого состояния человек «становится неким богом» (θεὸς ἐκεῖνος γίνεται), т. е. образом и подобием Бога, в полноте отображающим Первообраз (Paed. III 1. 1. 5). Говоря об обожении человека, К. А. отличал понятие «Бог» (ὁ θεός; с артиклем), относимое только к Творцу, от понятия «бог» (θεός; без артикля), к-рое может по способу аналогии применяться к тварным существам. Так, «богами» у К. А. называются высшие ангельские силы, первые после Сына, непрестанно созерцающие Бога в небесном мире; согласно К. А., после полного «очищения» гностик будет жить на небесах «по Богу с богами» (см.: Strom. VII 10. 56. 1 - 57. 5). В силу этого у К. А. обожение нередко обозначается как достижение равноангельного состояния, или даже «преображение» в ангельскую природу (см.: Strom. VI 13. 105. 1; Eclog. proph. 57; ср.: Völker. 1952. S. 603-604). Однако, вопреки мнению некоторых совр. исследователей (см., напр.: Bucur. 2009. P. 42-51), уподобление ангелам само по себе не объясняет всех смыслов обожения, а скорее является побочным следствием уподобления Богу, поскольку приближающийся к Богу человек в своем движении неизбежно достигает той стадии, на которой пребывают небесные духи, и в этом смысле становится «равным» им (ср.: Butterworth. 1916. P. 159). Библейское основание как для того, чтобы говорить о становлении человека богом, так и для именования «богами» небесных духов К. А. видел в словах из Псалтири: «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы» (Пс 81. 6; об интерпретации этого места у К. А. и др. раннехрист. писателей см.: Hoek. 1998; Mosser. 2005). Комментируя их, К. А. отмечал, что, исполняя данные в НЗ заповеди о любви к Богу и ближнему, «гностик получает возможность стать богом» (см.: Clem. Alex. Strom. IV 23. 149. 9). Опираясь на это же место ВЗ, а также на рассуждения ап. Павла в НЗ (см.: Рим 8. 14-17), К. А. подчеркивал в обожении принципиальный христ. аспект, связанный с усыновлением человека Богом. Поскольку христианин в церковных таинствах и в личном подражании соединяется с воплощенным Сыном Божиим, Иисусом Христом, он получает право именоваться «усыновленным» во Христе сыном Бога: «Он усыновил нас и желает называться только нашим Отцом, но не Отцом непокорных» (Protrept. 12. 123. 1). «Через Сына», согласно К. А., гностик достигает «возведения в совершенное сыноположение» (εἰς τὴν τελείαν υἱοθεσίαν ἀποκατάστασις - Strom. II 22. 134. 2), поэтому он «достоин уже называться братом Господа, будучи при этом также Его другом и Его сыном» (Strom. III 10. 69. 4; см. также: Protrept. 11. 113. 4-5; Quis div. salv. 9. 2). От Иисуса Христа обоженный гностик получает по благодати Божественные свойства: нетление и бессмертие; благодаря вселению в него Св. Духа он становится безгрешным, святым, «богоносящим и богоносимым» (θεοφορῶν κα θεοφορούμενος), обретая нерасторжимую связь с Богом (Strom. VII 13. 82. 2; ср.: Russell. 2004. P. 136). Выражая представление об этой связи, К. А. замечал, что, соединяясь с Господом, человек становится «единым духом с Господом», «духовным телом» (см.: Clem. Alex. Strom. VII 14. 88. 3; ср.: 1 Кор 6. 17; 15. 44). Еще более сильная формулировка встречается в «Извлечениях из сочинений Феодота...», где говорится, что благодаря Силе Божией (т. е. Логосу) человек делается богоносным; он «непосредственно руководим Господом и есть как бы Его тело» (Clem. Alex. Exc. Theod. 27. 6). Представление о телесном соединении гностика с Иисусом Христом имеет у К. А. двойное евхаристическо-экклезиологическое значение: тело Христово есть святая Церковь, соединяемая принимаемыми в Евхаристии всеми христианами Телом и Кровью воскресшего Христа (см.: Paed. I 6. 46. 2-3; Strom. VII 14. 87. 4; Exc. Theod. 13. 1-5; ср.: Шуфрин. 2009. С. 11-12).
Характерным отличием учения об обожении К. А. от представлений мн. др. церковных писателей является утверждение, что отдельные гностики (в качестве примера К. А. указывал на апостолов; ср.: Clem. Alex. Strom. VI 9. 71. 3) способны достичь полноты обожения уже в земной жизни. Так, К. А. говорил о совершенном гностике как о «боге, странствующем во плоти» (ἐν σαρκ περιπολῶν θεός). Основание для такого утверждения очевидно из контекста: поскольку по человечеству Иисус Христос как Учитель гносиса был обожен уже во время земной жизни, это возможно и для уподобляющихся Ему гностиков (см.: Ibid. VII 16. 101. 4).
Хотя К. А. отождествлял обожение с высшей степенью уподобления Богу, он понимал обожение не как статический результат, но как динамический процесс; поэтому обожение - это «бесконечная конечная цель» (τέλος τὸ ἀτελεύτητον κα τέλειον - Ibid. 10. 56. 3; ср.: Ibid. II 22. 134. 1; ср. комментарий: Шуфрин. 2009. С. 6-9). С помощью этой парадоксальной формулировки К. А. указывал на то, что приближение человека к Богу никогда не становится слиянием с Богом и растворением в Нем. Поскольку Бог и человек, согласно К. А., не являются и не могут стать «единосущными» (см.: Clem. Alex. Strom. II 16. 74. 1), между Богом и человеком всегда будет сохраняться сущностное различие и расстояние, однако в обожении человек способен достичь бесконечно возрастающей и бесконечно длящейся причастности бесконечному Богу, пребывания близ Него; эта причастность и есть конечная цель, бесконечная по своему содержанию (ср.: Hoek. 1998. P. 218; Шуфрин. 2009. C. 23-24).
Экклезиология
Учение о Церкви является у К. А. органичным следствием христологии и сотериологии. Поскольку воплотившийся Логос есть единственный Спаситель, исцеляющий грехи и страсти, и единственный Учитель истины, открывающий ее всем желающим откликнуться на Его призыв людям, Его последователи объединены в общей вере, надежде и любви, составляя единственную истинную христ. Церковь. Для обозначения этого единства, существующего во множественности церковных общин и отдельных верующих, К. А. пользовался как ставшим впосл. общепринятым в правосл. экклезиологии термином «кафолическая Церковь» (καθολικὴ ἐκκλησία - Clem. Alex. Strom. VII 17. 106. 3; 107. 5), так и описательным выражением «вся в целом Церковь» (συμπάση ἐκκλησία - Paed. II 8. 71. 2; πᾶσα ἐκκλησία - Strom. IV 8. 58. 2). Церковь для К. А. есть учрежденное Богом посредством евангельской проповеди апостолов земное сообщество всех верующих, однако в то же время на духовном уровне она есть мистическое тело Иисуса Христа, к к-рому христиане присоединяются в церковных таинствах. Хотя К. А. не предлагал формального определения Церкви, его представления о ее природе и свойствах ясно и определенно были выражены в «Педагоге» и «Строматах» (общий обзор экклезиологии К. А. см.: Völker. 1952. S. 153-160; Hofmann. 1956; Сидоров. 1998. С. 97-104).
Противопоставляя истинную христианскую Церковь еретическим общинам, К. А. с особой силой подчеркивал ее единство: «Есть один только Бог, один Господь... и в соответствии с природой этого Единого составляется единая Церковь, которую насильники стремятся разорвать на множество ересей. А мы утверждаем, что древняя и кафолическая Церковь едина по природе, по понятию, по началу, по превосходству; она собирает в единство единой веры по воле единого Бога через единого Господа всех приобретших покорность [вере]» (Clem. Alex. Strom. VII 17. 107. 4-5). С единством Церкви К. А. связывал ее древность, указывая, что все противопоставляющие себя Церкви еретические группы по времени возникли позже Церкви; они либо отделились от нее, либо были основаны самозваными учителями, не получившими никакого спасительного церковного Предания от Иисуса Христа и апостолов (см.: Ibid. 106. 4 -107. 2). Напротив, истинная Церковь была основана апостолами (см.: Ibid. IV 9. 75. 1), которые, хотя и проповедовали в различных землях, везде возвестили одно евангельское учение и оставили одно Предание, хранимое Церковью (Ibid. VII 17. 108. 1). Единая Церковь есть хранительница «церковного канона», «церковной симфонии Закона, пророков, апостолов и Евангелия», т. е. неизменного по своей сущности и при этом постоянно обогащающегося церковного Предания (см.: Ibid. IV 11. 88. 5).
Говоря об отношении Церкви как единого тела Христова к входящим в нее отдельным христианам, К. А. часто именовал ее Матерью, подчеркивая, что в ней человек заново рождается при крещении и через нее Логос проявляет Свое заботливое попечение о всех христианах, просящих у Него избавления от грехов и помощи в спасении (см.: Völker. 1952. S. 154-157). В «Педагоге» К. А. раскрывал образ Церкви как девственной Матери: она девственна в силу чистоты и непорочности хранимого ею учения; как Мать, она предлагает своим детям питательное молоко - спасительные наставления Логоса и Его Плоть и Кровь, дарующие вечную жизнь (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 42. 1-3). Церковь есть единственная «помощница в спасении» (Ibid. I 5. 22. 2), поскольку в ней всегда присутствует Логос как Воспитатель и как Учитель, обращающийся ко всем ее членам через ее посредство и, будучи ее Главой, пользующийся ею как Своим Телом для всех совершаемых Им спасительных действий (ср.: Strom. VII 14. 87. 3; Paed. I 5. 22. 2; II 8. 73. 3). Наряду с земной Церковью К. А. говорил о «небесной Церкви» (οὐράνιος ἐκκλησία - Paed. II 1. 6. 2; Strom. IV. 8. 66. 1), к-рую он называл также «духовной Церковью» (πνευματικὴ ἐκκλησία - Strom. VII 68. 5); эта Церковь, по его словам, тождественна «Царству Божию» и есть «святое сообщество любви» (Paed. II 1. 6. 2). Земная Церковь, согласно К. А.,- это отображение (εἰκών) совершенной небесной Церкви (Strom. IV 8. 66. 1), в которой соединены все избранные, т. е. достигшие богоподобия и святости гностики, к-рая устроена волей Бога и к-рая есть царство Логоса (см.: Ibid. VII 5. 29. 3-4; ср.: Ibid. IV 26. 172. 2-3; ср.: Völker. 1952. S. 157-158). Небесная Церковь для К. А. тождественна «Церкви Господа» (ἐκκλησία κυρίου), т. е. единому Телу Христову, видимо существующему как единая земная Церковь. Те христиане, которые следуют заповедям Логоса, переходят из земной в небесную Церковь, образуя «духовный и святой хор» обоженных гностиков; напротив, те люди, к-рые принадлежат к земной Церкви лишь по имени, но не следуют закону Логоса и ведут нечестивую языческую жизнь, являются «плотскими членами» (σάρκες) и потому не могут войти в небесное «духовное тело» Христа, т. е. в небесную Церковь (см.: Clem. Alex. Strom. VII 14. 87. 3 - 88. 3).
Упоминания К. А. о церковной иерархии и др. внешних формах церковной жизни крайне немногочисленны (общий обзор см.: Neymeyr. 1993; Idem. 1997). По убеждению К. А., существование в Церкви иерархии имеет прежде всего служебное назначение. Называя иерархические церковные чины «последовательными церковными степенями» (αἱ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν προκοπα), К. А. утверждал, что они являются «подражанием» (μιμήματα) порядку небесных ангельских чинов (Clem. Alex. Strom. VI 13. 107. 2). Соответственно, как низшие ангелы исполняют определенное служение под руководством высших ангелов, так и в Церкви все иерархические степени служат общей задаче - приведению членов Церкви к спасению. К. А. упоминал о 3 степенях священства, впосл. закрепившихся в правосл. традиции: епископах, пресвитерах и диаконах (Ibidem; ср. также: Paed. III 12. 97. 2). При этом, сообщая в соч. «Кто из богатых спасется?» церковное предание о том, что ап. Иоанн Богослов поставлял епископов в церковных общинах и одному из них вверил для воспитания юношу, К. А. использовал для обозначения этого лица и наименование «епископ» (см.: Quis div. salv. 42. 3), и наименование «пресвитер» (см.: Ibid. 4); в «Строматах» встречаются упоминания пресвитеров и диаконов без упоминаний епископов (см.: Strom. III 12. 90. 1; VI 13. 106. 2; VII 1. 3. 3). Т. о., вероятно, К. А., как и др. раннехрист. писатели, не считал епископство и пресвитерство строго отделенными друг от друга степенями священства и рассматривал епископа как первого по чести среди равных ему по благодати священства пресвитеров. Епископ, согласно К. А., руководит церковной общиной (ср.: Quis div. salv. 42. 2); следуя рассуждению ап. Павла, К. А. говорил о том, что обязанностью епископа является «управление Церковью» (см.: Strom. III 12. 79. 6; 18. 108. 2; ср.: 1 Тим 3. 4). Об обязанностях пресвитеров и диаконов К. А. подробно не рассуждал. Сравнивая в «Строматах» церковное служение с ангельским, он утверждал, что по отношению к членам Церкви пресвитеры исполняют «служение улучшения» (θεραπεία βελτιωτική), а диаконы - «служение поддержки» (θεραπεία ὑπηρετική); он упоминал также о совершаемом пресвитерами возложении рук и преподании благословения (Paed. III 11. 63. 1), однако, по-видимому, воспитательные и учительные обязанности священнослужителей К. А. считал более важными, чем литургические обязанности (см., напр.: Strom. II 15. 69. 2-3; ср.: Hofmann. 1956. S. 15).
Отличительной особенностью экклезиологии К. А. является представление о том, что наряду с иерархическим служением в Церкви существуют харизматические служения, т. е. служения апостолов и учителей. К. А. полагал, что в совр. ему христ. Церкви эти служения призваны исполнять истинные гностики, к-рые заботятся как об обращении язычников в христианство, так и о преуспеянии христиан в вере и добродетели, причем делают это не по долгу служения, но по христ. любви. Считая такие харизматические служения более сложными и потому более высокими, чем общецерковные иерархические служения, К. А., однако не рассматривал 2 вида служений как взаимоисключающие. Говоря о гностическом учителе, К. А. отмечал, что он может быть «вписан в список апостолов», что он есть «поистине пресвитер Церкви и истинный диакон, служащий воле Божией, поскольку он исполняет заповеди Господа и учит этому других». Согласно К. А., такой учитель «не рукоположен людьми» (ὑπ᾿ ἀνθρώπων χειροτονούμενος; ср.: Деян 14. 23; это единственный случай употребления К. А. данного понятия, поэтому нельзя сказать подразумевает ли он рукоположение в литургическом смысле или избрание народом; ср.: Neymeyr. 1997. S. 495) и не считается праведным только на том основании, что он пресвитер, но «причисляется к пресвитерству (ἐν πρεσβυτερίῳ καταλεγόμενος), поскольку он праведен»; на земле он не выделяется «предстоятельством» (πρωτοκαθεδρία; ср.: Мф 23. 6; Мк 12. 39; Лк 11. 43; 20. 46), однако на небесах «воссядет чтобы судить народ на тех двадцати четырех тронах, о которых говорит в Апокалипсисе Иоанн» (Clem. Alex. Strom. VI 13. 106. 1-2; ср.: Откр 4. 4, где говорится о 24 «старцах» (πρεσβύτεροι), под к-рыми К. А. понимал совершенных гностиков, «избранных из избранных», отобранных из Церкви и удостоенных величайшей славы; см.: Clem. Alex. Strom. VI 13. 107. 2). Хотя нек-рые исследователи видели в этом рассуждении К. А. критику церковной иерархии, в действительности он выступал лишь против мнения о том, что принадлежность к иерархии сама по себе делает человека святым и праведным. «Гностик», т. е. христ. подвижник и наставник, не принадлежа к иерархии, может достичь более высокой степени святости, чем священнослужители, почитаемые на земле из-за выполняемого ими служения. Т. о., рассуждение К. А. не содержит отрицания традиц. форм организации церковной жизни, но, напротив, является скрытым призывом ко всем служителям Церкви не довольствоваться внешним и формальным исполнением своих функций, но стремиться к гносису и духовному совершенству и тем самым дополнять иерархическое достоинство личной харизматической святостью (ср.: Neymeyr. 1997. S. 494). В церковно-исторической перспективе представление К. А. об особом церковном служении гностика нашло отражение в правосл. традиции старчества и духовного руководства (см.: Сидоров. 1998. C. 102-103; ср.: Clem. Alex. Quis div. salv. 41. 1-7).
Сакраментология
Не обращаясь в сохранившихся сочинениях к последовательному рассмотрению церковных таинств, К. А. вместе с тем неоднократно предлагал краткие объяснения их природы и их спасительного значения для христиан. Лаконичность, отрывочность и энигматичность рассуждений К. А. о таинствах во многом объясняются его уверенностью в том, что они составляют содержание внутрицерковной жизни, о к-ром не следует сообщать пребывающим вне Церкви (см., напр.: Clem. Alex. Strom. IV 25. 162. 3-4). Специального понятия, с помощью к-рого таинства отделялись бы от церковной жизни в целом, К. А. не использовал. Ставшие в последующей христ. традиции общепринятыми обозначениями при описании церковных таинств существительное μυστήριον (таинство) и прилагательное μυστικός (таинственный) встречаются в рассуждениях К. А. о таинствах крайне редко (см., напр.: Paed. I 6. 43. 1; 46. 3; II 2. 20. 1; 29. 1; Strom. V 11. 73. 2); он употреблял их для общего указания на некий сокрытый духовный смысл, к-рый может быть обнаружен в видимой реальности (анализ словоупотребления см.: Marsh. 1936). «Святыми таинствами» (τὰ ἅγια μυστήρια) К. А. назвал все в целом домостроительство спасения, связанное с «пришествием Господа», т. е. с Боговоплощением (см.: Clem. Alex. Strom. VI 15. 127. 4); в этом смысле церковные таинства могут быть поняты как способы личного приобщения к объективно уже совершившемуся спасению. Источником и совершителем как таинства спасения в целом, так и отдельных таинств является воплотившийся Логос, Которого К. А., используя терминологию языческих мистерий, именовал Иерофантом (Protrept. 12. 120. 1) и Мистагогом (Strom. IV 22. 165. 3), т. е. Тайноводителем. Общего определения таинств К. А. не предлагал, однако из его рассуждений о них можно заключить, что К. А. считал таинства необходимым элементом церковной жизни, поскольку они являются высшим выражением непрестанно осуществляющейся в Церкви благодатной деятельности Логоса и Св. Духа. Т. о., наиболее удачно свойственное К. А. представление о природе таинств может быть выражено классическим определением, восходящим к блж. Августину, еп. Гиппонскому, согласно которому таинство есть «видимый знак невидимой благодати» (см.: Aug. Ep. 105. 3; ср.: Feulner. 2006. S. 200). Из принимаемых ныне правосл. Церковью семи таинств в сочинениях К. А. упоминаются Крещение, Евхаристия и Покаяние.
Посредством Крещения человек делается членом Церкви и получает доступ к полноте благодатных плодов совершенного Иисусом Христом спасения (об интерпретации таинства Крещения у К. А. см.: Rüther. 1922. S. 118-129; Echle. 1949; Orbe. 1955; Nardi. 1984; Hägg. 2011). Прообразом крещения христианина является Крещение Господне в Иордане (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 25. 1-3); объясняя его смысл в «Избранных местах из пророческих писаний», К. А. отмечал: «Спаситель был крещен, хотя Сам Он и не нуждался в этом, чтобы освятить всю воду для тех, кому предстояло быть возрожденными». Как и творение мира, возрождение совершается «водой и Духом» (ср.: Ин 3. 5), поэтому вхождение в освященную присутствием Господа воду, т. е. в преображенную Духом материю, означает обновление крещаемого человека, «новое духовное творение» (см.: Clem. Alex. Eclog. proph. 6-8; ср.: Hägg. 2011. P. 976-977, 980-982). Подробное описание духовного содержания и спасительного значения таинства Крещения К. А. предложил в «Педагоге» в контексте полемики с гностиками, считавшими, что само по себе принятие крещения не может сделать христианина совершенным и нуждается в некоем последующем восполнении. Напротив, согласно К. А., крещения есть самодостаточное благодатное событие, определяющее весь дальнейший ход духовной жизни христианина. В нем человек, отвечая своей верой на призыв Логоса, получает укрепление этой веры дарами Св. Духа, Который при крещении благодатно соединяется с христианином и навсегда остается с ним, подавая ему помощь в движении от открывающейся в крещении возможности достижения совершенства к полноте реализации этой возможности в обожении. Именно с учетом этой перспективы К. А. утверждал, что в крещении человек «уже» достигает совершенства, к к-рому стремится (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 25. 1), поскольку «крещаемые, мы просвещаемся, просвещаемые - усыновляемся, усыновляемые - делаемся совершенными, делаясь совершенными - получаем бессмертие» (Ibid. 26. 1). Будучи единым «деянием» (ἔργον) Логоса и Св. Духа, таинство Крещения соединяет в себе неск. сторон, отражением к-рых К. А. считал используемые по отношению к нему в НЗ и в церковной традиции наименования (см.: Ibid. 26. 2). Крещение есть: 1) «омовение» (λουτρόν; ср.: Еф 5. 26; Тит 3. 5), поскольку после Крещения человек целиком очищается от всех ранее совершенных им грехов (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 26. 2; 28. 1; 30. 1; III 9. 48. 2; Strom. II 13. 56. 1); 2) «дар» (χάρισμα; ср.: Рим 6. 23), поскольку в результате Крещения человек освобождается от наказаний за прегрешения (τὰ ἐπ τοῖς ἁμαρτήμασιν ἐπιτίμια); 3) «совершенство» (τέλειον; ср.: Кол 1. 28), поскольку в Крещении человеку предоставляется все, необходимое для спасения; 4) «просвещение» (φώτισμα; слово впервые встречается у К. А. и, вероятно, является введенным им христ. неологизмом; в НЗ употребляется форма φωτισμός, ср.: 2 Кор 4. 4, 6; Евр 6. 4; 10. 32), поскольку благодаря Крещению «созерцается святой и спасительный свет», дарующий человеку возможность созерцать и познавать Бога (см.: Clem. Alex. Paed. I 6. 26. 2). Связанное с понятийным языком Евангелия от Иоанна (см., напр.: Ин 1. 9; 3. 3-22) и Посланий ап. Павла представление о Крещении как о просвещении до К. А. встречалось у мч. Иустина Философа (см.: Iust. Martyr. I Apol. 61. 12; 65. 1; ср.: Idem. Dial. 39. 2), однако именно К. А. впервые в раннехрист. богословии предложил подробную и многоплановую разработку этой темы. Как и мч. Иустин Философ, К. А. связывал просвещение с благодатным воздействием Бога на человеческий разум. Согласно К. А., поскольку в таинстве Крещения уничтожаются грехи, «взор духа» (ὄμμα τοῦ πνεύματος) человека становится свободным, не имеющим препятствий для своей деятельности и потому «светлым» (φωτεινόν). Получая с небес в Крещении просвещающее «излияние Святого Духа» (ἐπεισρέοντος ἡμῖν τοῦ ἁγίου πνεύματος), человек приобретает способность собственным светлым духовным взором «созерцать Божество» (Clem. Alex. Paed. I 6. 28. 1). Подчеркивая глубину соединения духа человека и Св. Духа, происходящего при Крещении, К. А. отмечал, что тварный свет духа человека входит в «смешение» (κρᾶμα) с «вечным солнечным светом», т. е. со светом Св. Духа и с тождественным ему светом Логоса; благодаря этому ум человека может, познавая подобное подобным, созерцать «вечный Свет», т. е. Самого Бога (Ibid. 2; ср.: Ibid. 32. 1). Просвещенный человек становится, согласно выражению ап. Павла, «светом в Господе» (φῶς ἐν κυρίῳ; Еф 5. 8); как отмечал К. А., именно на «становление светом», т. е. благодатное приобщение к Богу через Бога, таинственно указывает употребление греками для обозначения света (φῶς) и человека (φώς) графически и фонетически одинакового слова (Clem. Alex. Paed. I 6. 28. 2; слово φώς в значении «человек, мужчина» употреблялось в ранней греч. поэзии, в т. ч. у Гомера; по мнению совр. филологов, этимологическая связь между 2 словами возможна, но недоказуема; см.: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. P., 1974. Т. 3. P. 1169-1170, 1238). Т. о., Крещение как просвещение для К. А. является таинством нового духовного рождения, в котором воскресший Иисус Христос отверзает человеку очи разума (см.: Clem. Alex. Strom. V 11. 73. 1; о связи у К. А. символики света и таинства Крещения см. также: Choufrine. 2002. P. 41-76). Полагая, что благодать таинства Крещения не просто подается единожды, но сопутствует человеку во всей его дальнейшей жизни, К. А. указывал на это с помощью понятия «печать» (σφραγίς); хотя в последующей церковной лит-ре это понятие было связано с таинством Миропомазания, употребление его у К. А. не позволяет с уверенностью заключить, существовало ли в его время представление о «печати» как об отдельном тайнодействии. Упоминая в «Строматах» о «благословенном крещении» и «блаженной печати» (см.: Clem. Alex. Strom. II 3. 11. 2), К. А. говорил также о «таинственной печати» (Ibid. V 11. 73. 1), символически соответствующей тридневному воскресению Спасителя; в последнем случае речь, бесспорно, идет о таинстве Крещения (ср. также: Quis div. salv. 39. 1; 42. 4; Protrept. 12. 120. 1). Понятия «печать» и «запечатление» неоднократно встречаются в «Извлечениях из сочинений Феодота...» в контексте изложения учения о крещении, существовавшего в гностицизме; в рамках этого учения печать указывала на подаваемую властью Имени Божия таинственную защиту от злых сил, которую избранные получают при крещении (см.: Exc. Theod. 80, 86). Не принимая такое магическое представление о получаемом в таинстве Крещения даре, К. А. в «Строматах» говорил о том, что лишь уподобление Богу наделяет человека «сияющей печатью праведности», к-рая есть умопостигаемый свет, «соединенный с душой благодаря непрерывной любви» (Clem. Alex. Strom. VI 12. 104. 1). Т. о., подлинной «печатью» для К. А. является присутствие Св. Духа в очищенной душе (ср.: Еф 4. 30), к-рое есть одновременно причина и следствие начинающейся после крещения праведной жизни (ср.: Clem. Alex. Eclog. proph. 12).
Учение К. А. о Евхаристии получало противоречивые интерпретации в исследовательской литературе и было предметом многочисленных дискуссий. Понятийное содержание связанных с евхаристической тематикой рассуждений и замечаний К. А. в значительной мере определялось общим контекстом, в к-ром они формулировались, вслед. чего их согласование друг с другом нередко затруднительно (перечень всех высказываний К. А. с комментариями см.: Struckmann. 1905; общий анализ учения К. А. о Евхаристии см.: Méhat. 1978; ср. также: Eijk. 1971; Pratt. 1987; Feulner. 2006. S. 202-204; см. также ст. Евхаристия). О том, что К. А. воспринимал Евхаристию как неотъемлемую часть христ. церковной жизни, свидетельствуют встречающиеся в его сочинениях краткие упоминания о практических сторонах совершения Евхаристии. Так, он писал об испытании совести перед участием в Евхаристии; говорил о разделении евхаристического Хлеба между верующими (Clem. Alex. Strom. I 1. 5. 1); упоминал при перечислении форм воздаваемого Богу благодарения «святое приношение» (προσφορά ἁγία; Ibid. VI 14. 113. 3; в «Строматах» προσφορά употребляется только в значении «жертвенное приношение»; см.: I 19. 96. 1; III 4. 28. 4 (цитата Еф 5. 2); VI 2. 6. 2); критиковал практику энкратитов использовать для совершения Евхаристии воду вместо вина (см.: Strom. I 19. 96. 1; Paed. II 2. 32. 2 - 33. 1). Последнее особенно важно, поскольку это косвенно указывает на значимость для К. А. конкретных внешних форм совершения Евхаристии; если бы он придерживался учения о необходимости только «духовной» Евхаристии и считал излишним участие в церковных евхаристических собраниях, вопрос об использовании воды или вина при Евхаристии вообще не привлек бы его внимания (ср.: Méhat. 1978. P. 103-106). При этом, однако, большинство рассуждений К. А. о Евхаристии содержат различные духовно-символические толкования и объяснения природы этого таинства. Согласно К. А., Евхаристия есть «духовная пища», предлагаемая Логосом, поэтому в евхаристических Плоти и Крови Иисуса Христа К. А. видел указание на подаваемые христианам духовные дары: веру и надежду (см.: Paed. I 6. 38. 1. 3); богопознание (см.: Strom. V 10. 66. 3); нетление (см.: Paed. I 6. 47. 1; II 2. 19. 4). Однако для К. А. Евхаристия является не просто внешним символом дарования от Бога неких даров, но прежде всего событием реального явления и присутствия Иисуса Христа, предлагающего Себя верующим для духовного приобщения и призывающего их к участию в Божественной жизни: ««Я - Тот, Кто кормит тебя, предлагая Самого Себя как Хлеб; вкушающий этот Хлеб никогда не испытает смерти. Я каждый день подаю [тебе Себя] как напиток бессмертия» (Quis div. salv. 23. 4). Представление о евхаристических Плоти и Крови как о соединении Логоса и Св. Духа в едином Господе (см.: Paed. I 6. 43. 2-4), Который предлагает Себя верующим в полноте спасительных и благодатных даров, свидетельствует о том, что К. А. видел в Евхаристии таинство богообщения, реального соединения с Богом, ставшего возможным в результате Боговоплощения. Выражая идею такого соединения, К. А. утверждал, что те, кто с верой приступают к участию в Евхаристии, «освящаются телом и душой, поскольку воля Отца таинственным образом смешивает человека с Духом и Логосом в некое божественное смешение»; при этом душа человека становится «сродной» Духу, поскольку она берет свое начало от Него, а тело - Логосу, воспринявшему плоть (Ibid. II 2. 20. 1). Понятие «смешение» (κρᾶμα), употребляемое К. А. как применительно к Крещению, так и применительно к Евхаристии, не означает для него сущностного растворения человека в Боге, но указывает на происходящее в этих таинствах событие соприкосновения с Богом, Который благодатно посещает человека и вводит его в Свою жизнь (ср.: Struckmann. 1905. S. 126-129; Méhat. 1978. P. 113-116). Т. о., Евхаристия для К. А. является реальным приобщением всего человека к благодати Иисуса Христа, преподающего Себя христианам как духовную пищу, и вхождением по дару Св. Духа в нетленную вечную жизнь.
О покаянии К. А. говорил как об акте, в к-ром человек осуждает совершенные им грехи и выражает перед Богом намерение вести праведную жизнь; поскольку он не связывал с покаянием особого действия Св. Духа, в его интерпретации покаяние может считаться таинством лишь в общем и неопределенном смысле. Первое покаяние происходит перед таинством Крещения и завершается получаемым при Крещении отпущением всех грехов, совершенных ранее «в неведении», т. е. в языческой жизни. Как и мн. раннехрист. писатели, К. А. допускал после Крещения лишь однократное «второе покаяние» (μετάνοια δευτέρα), к-рое Бог установил по Своему милосердию для христиан, впавших по слабости в некий смертный грех, раскаявшихся в нем и принявших твердое решение исправить свою жизнь (см.: Clem. Alex. Strom. II 13. 56. 1 - 57. 1). К практике многократного покаяния в грехах, в к-рые человек всякий раз впадает вновь, К. А. относился с ригористическим осуждением, отмечая, что это «не покаяние, но лишь видимость покаяния», поскольку человека, сознательно совершающего грех и не желающего бороться с ним, нельзя считать искренне раскаивающимся (см.: Ibid. 57. 3 - 59. 1). Однако, смягчая свою позицию, К. А. давал понять, что и такое покаяние все же лучше, чем полное отпадение от Бога, к-рое есть единственный «грех к смерти» (ср.: 1 Ин 5. 16-17). Бог отпускает людям прегрешения, совершенные по слабости, и открывает им Свою любовь через Иисуса Христа, во власти Которого находится прощение и изглаживание грехов (Clem. Alex. Strom. 65. 1 - 66. 4; см. также: Quis div. salv. 39. 1 - 40. 6; ср.: Feulner. 2006. S. 204).
Эсхатология
Вопросы эсхатологии не были предметом специального внимания К. А.; все встречающиеся у него эсхатологические рассуждения предлагаются в контексте рассмотрения сотериологических тем (общий обзор эсхатологии К. А. см.: Schmöle. 1974; Mees. 1978; ср. также: Макарий (Оксиюк), митр. 1914. С. 106-120). Эсхатология К. А. имеет «завершенный» и «сбывшийся» характер: поскольку центральным эсхатологическим событием является явление Бога людям через воплощение Логоса, открывшее для человека возможность обожения уже в земной жизни, эсхатологическое ожидание уже стало сбывшимся. Для совершенного гностика, вошедшего в «обитель покоя» и в «небесную Церковь» (ср.: Clem. Alex. Strom. VI 14. 108. 1), вечная жизнь уже стала настоящим, а продолжающаяся телесная жизнь и неизбежная смерть уже преодолены в предвосхищении грядущего (см.: Ibid. 9. 73. 4; 13. 105. 1). Т. о., историческая эсхатология, описывающая общие судьбы человечества и конец мировой истории, у К. А. является следствием мистической эсхатологии как учения об индивидуальном пути каждого человека к обожению (ср.: Сидоров. 1998. С. 137).
Следуя учению НЗ, К. А. признавал, что после смерти, являющейся разделением души и тела, души праведных наследуют блаженство, а души грешников подвергаются мучениям. О том, что К. А. отчетливо различал частную и общую эсхатологию, свидетельствует его учение о двойном суде: посмертном суде над каждой душой и всеобщем суде после конца мира. Первый суд, согласно К. А., совершается ангелами, наблюдающими за «восхождением» (ἄνοδος), к-рые встречают душу после ее отделения от тела; при этом души праведных возводятся на небеса добрыми ангелами, а души грешников попадают во власть злых духов и низводятся в ад для наказания (см.: Clem. Alex. Strom. IV 19. 116. 2 - 117. 2; Quis div. salv. 42. 15 = Fragm. 69 (арм. фрагмент); ср. также: Quis div. salv. 3. 6). В «Строматах» К. А. утверждал, что душа праведника вслед. созерцательной и добродетельной жизни приобретает «светящийся отпечаток праведности» (τὸν χαρακτῆρα τῆς δικαιοσύνης τὸν φωτεινόν), который как «святой символ» душа предъявляет при восхождении ангелам; видя в душе «полноту гносиса и праведности, происходящей от [добрых] дел», ангелы пропускают душу на небеса. Напротив, если душа представляет ангелам «мирские дела», они удерживают ее как «взыскатели пошлины», поскольку она, будучи отягощена страстями, должна понести наказание (Clem. Alex. Strom. IV 19. 116. 2; 117. 2; в рус. пер. Афонасина (Строматы. 2003. Т. 2. С. 51-52) смысл отрывка искажен). У К. А. прослеживается не традиц. для правосл. эсхатологии двойное, а тройное деление людей в зависимости от их посмертной участи: 1) достигшие на земле бесстрастия и безгрешности гностики удостаиваются «совершенного наследия», т. е. сразу после смерти входят в Царство Божие, где далее возрастают в духовном совершенстве и богопознании (см.: Clem. Alex. Strom. VI 14. 114. 3-6); 2) люди, стремившиеся вести праведную жизнь, но не освободившиеся от грехов, пребывают в духовном очистительном огне (см.: Ibid. VII 6. 34. 4; ср.: Ibid. V 1 9. 3); К. А. отмечал, что их наказанием является постоянное раскаяние в совершенных после крещения грехах, и скорбь от того, что они по своей вине не достигли того состояния, к-рым уже наслаждаются праведники (см.: Ibid. VI 14. 109. 3-6; ср.: Ibid. VII 9. 56. 3-4); 3) не пожелавшие обратиться к Богу язычники и нераскаявшиеся грешники осуждаются Богом и наказываются карающим огнем (см., напр.: V 14. 90. 4 - 91. 2). Как очистительные, так и карающие наказания продолжаются до конца мира, т. е. до всеобщего суда.
У К. А. встречаются утверждения о том, что Бог (Логос) есть праведный Судия (см.: Paed. I 2. 4. 2; III 12. 101. 1), и о том, что каждый человек и весь мир в целом «ожидают» суда Божия (см.: Ibid. 100. 2; ср.: Макарий (Оксиюк), митр. 1914. С. 116-119). К. А. прямо говорил об «окончательном суде» (παντέλης κρίσις - Clem. Alex. Strom. VII 2. 12. 5; 16. 102. 3; παντέλης διάκρισις - Ibid. III 9. 63. 4); в лат. фрагменте «Очерков» упоминается «второе пришествие» Господа (см.: Clem. Alex. Fragm. 24 // Werke. 19702. Bd. 3. S. 213; ср.: 1 Ин 2. 28; см. также: Clem. Alex. Eclog. proph. 56). Опираясь на Свящ. Писание и церковную традицию, К. А. полагал, что последнему суду будет предшествовать всеобщее телесное воскресение. Так, согласно предложенному им толкованию, слова из Псалтири: «Хвалите Его со звуком трубным» (Пс 150. 3) - указывают на то, что «мертвые воскреснут при звуке трубы», а слова: «Хвалите Его с тимпаном и ликами» (Пс 150. 4) - обозначают «Церковь, ожидающую воскресения плоти (τὴν μελετήσασαν τῆς σαρκὸς τὴν ἀνάστασιν) при звуке кожаного тимпана» (Clem. Alex. Paed. II 4. 41. 4). Представление К. А. о воскресении плоти выражено также в лат. фрагменте «Очерков», где утверждается: «Душа не возвращается во второй раз в тело в этой жизни, ни праведная, поскольку она становится ангельской, ни злая, чтобы не получить вследствие принятия плоти вновь возможности грешить, в воскресении же и та, и другая возвращается в тело (in corpus reverti)» (Clem. Alex. Fragm. 24 // Werke. 19702. Bd. 3. S. 203). Вероятно, К. А. полагал, что воскресшие тела праведников будут иметь новую, духовную природу; они будут бессмертными и нетленными (см.: Paed. III 1. 3. 3; II 10. 100. 3); упразднится также разделение между муж. и жен. полом (Ibid. I 4. 10. 3; ср.: Лк 20. 34-36). В «Строматах» К. А. упоминает о 3 небесных обителях, предназначенных для праведников, достигших различного уровня духовного совершенства (см.: Clem. Alex. Strom. VI 14. 114. 1-6). Подробное учение о возрастании праведных в совершенстве в буд. жизни представлено в «Избранных местах из пророческих писаний». Не разделяя популярного у раннехристианских авторов учения о тысячелетнем Царстве Христа (см. ст. Хилиазм), К. А., однако, использовал символику тысячелетних периодов для выражения собственных идей: по его словам, ангелы в течение тысячи лет наставляют тех праведников, к-рым предстоит стать равными им; по прошествии этой тысячи лет ангелы становятся архангелами, а наставляемые ими люди - ангелами (Clem. Alex. Eclog. proph. 56). Т. о., в окончательной эсхатологической перспективе после неск. тысячелетних периодов все духи и души должны возвыситься до состояния протоктистов; поскольку после достижения всеми совершенства ангельское воспитательное служение более не будет нужно, все совершенные духи будут наслаждаться вечным покоем и богосозерцанием (Ibid. 56-57; ср.: Bucur. 2009. P. 42-51).
Вопрос о том, был ли К. А. сторонником учения о всеобщем спасении (см. ст. Апокатастасис), получал в исследовательской лит-ре различные решения (см., напр.: Méhat. 1981. S. 108; Сидоров. 1998. С. 136; Макарий (Оксиюк), митр. 1914. C. 115-116). В сочинениях К. А. отсутствуют как бесспорные указания на бесконечность адских мучений, так и прямые утверждения об их конечности. Следуя языку НЗ, К. А. говорил о «вечном огненном наказании» (κόλασις ἔμπυρος αἰώνιος), которое уготовано диаволу и злым духам (см.: Clem. Alex. Quis div. salv. 33. 3; Protrept. 9. 83. 2), однако неизвестно, считал ли он это наказание бесконечным в абсолютном смысле. У К. А. встречаются нек-рые утверждения, впосл. оказавшиеся связанными с представлением об апокатастасисе, но не обязательно предполагающие такую интерпретацию в контексте К. А., напр., упоминание о том, что диавол, будучи свободным, мог покаяться, т. е. отказаться от совершения зла (см.: Strom. I 17. 83. 2). Наиболее близким к сложившемуся впосл. учению о всеобщем спасении является рассуждение К. А. в «Строматах» о спасительном действии Промысла Божия: «Господом всего все вещи и в целом и в частности упорядочены для спасения всего (πρὸς τὴν τοῦ ὅλου σωτηρίαν). Итак, действие справедливости Спасителя заключается в том, чтобы непрестанно возвышать каждого по мере возможности к чему-то лучшему... Поэтому все добродетельное переходит в лучшее состояние, и обусловлен этот переход выбором гностического знания, который самовластно совершается душой. Тех же, кто в большей степени ожесточились, по благости всевидящего великого Судии принуждают к покаянию необходимые воспитательные наказания (παιδεύσεις αἱ ἀναγκαῖαι), [налагаемые] через служебных ангелов, посредством многообразных предварительных судов и посредством окончательного суда» (Clem. Alex. Strom. VII 2. 12. 2-5). Из этого отрывка следует, что даже окончательный суд и определенное на нем наказание К. А. рассматривал как промыслительное «принуждение к покаянию»; хотя он прямо не утверждал, что это покаяние будет актуально принесено всеми разумными существами и его плодом станет спасение, такой вывод может быть сделан при соотнесении данных слов К. А. с его общим представлением о том, что Бог делает все для лучшей цели, и с постоянно подчеркиваемым им тезисом о неуничтожимости свободной воли, которая всегда может отказаться от зла и выбрать добро.
В «Строматах» К. А. неоднократно употреблял в эсхатологическом контексте термин ἀποκατάστασις (см.: Ibid. II 8. 37. 6; 22. 134. 2, 4; 136. 4; III 9. 63. 4; 64. 3; IV 21. 132. 1; 22. 145. 2; VI 9. 75. 2; VII 10. 56. 5), который впосл. использовался в патристической лит-ре для обозначения восстановления творения в первоначальное благое состояние и всеобщего спасения. Однако, как показал Меа (см.: Méhat. 1956), К. А. придавал этому термину иное значение и не употреблял его по отношению к злым духам или падшим душам; напротив, в «Избранных местах из пророческих книг» говорится, что «в высшем апокатастасисе» (ἐν τῇ ἄκρᾳ ἀποκαταστάσει) пребывают протоктисты, т. е. духовные силы, никогда не бывшие падшими и не могущие пасть (Clem. Alex. Eclog. proph. 57). Т. о., для К. А. «апокатастасис» - это не восстановление ангелов или душ в прежнее состояние, а «возведение» духовных существ до пребывания близ Господа, до «вечного созерцания» (Strom. VII 10. 56. 5) и состояния усыновленности Отцу через Сына (см.: Ibid. II 22. 134. 2; VI 9. 75. 2; ср. также: Ibid. IV 21. 132. 1).
Рецепция учения К. А. в христианском богословии; вопрос о почитании К. А.
После К. А. не осталось выдающихся учеников и сложившейся богословской школы; возможно, отчасти это объясняется тем, что его учительная деятельность в Александрии прервалась по причине гонений и последний период жизни он провел вдали от центров культурной и религиозной жизни Римской империи, помогая в повседневных церковных трудах своему ученику сщмч. Александру, еп. Иерусалимскому. Сведений о к.-л. др. учениках К. А. не сохранилось; Ориген, возможно в юные годы встречавшийся с К. А. в Александрии, не считал и не называл себя его учеником. Преемство Оригена по отношению к К. А. заключается не в непосредственном заимствовании у него конкретных богословских идей, а в рецепции представления о задачах и методах христ. богословия, сложившегося в Александрии благодаря трудам Пантена и К. А. Сформулированное К. А. в виде теоретического идеала учение о том, что одной из важнейших задач христ. богослова, или «гностика», должно быть исследование и духовное истолкование Свящ. Писания с использованием широкого круга вспомогательных наук, стало у Оригена богословской практикой и развилось в особую форму духовно-умозрительной аллегорической экзегезы, характерной для мн. последующих представителей Александрийской богословской школы.
В III-V вв. сочинения К. А. были известны мн. вост. отцам Церкви и церковным писателям, которые видели в К. А. выдающегося христ. богослова, сумевшего использовать достижения языческой философии для подтверждения истинности христ. веры. Однако, по справедливому замечанию Меа, уже в это время К. А. «больше восхваляли, чем читали»; его сочинения были распространены, однако в силу их специфики использовались в основном теми церковными писателями, которые вели полемику с язычниками и еретиками (Méhat. 1981. S. 111). Наибольшее влияние К. А. из богословов этого периода испытал еп. Евсевий Кесарийский, который в «Церковной истории» называл К. А. и его современника сщмч. Иринея, еп. Лионского, «старейшинами церковного православия» (τῆς ἐκκλησιαστικῆς πρεσβεύσαντες ὀρθοδοξίας - Euseb. Hist. eccl. III 23. 2). Еп. Евсевий неоднократно приводил взятые из сочинений К. А. предания об апостолах в «Церковной истории» (см., напр.: Ibid. I 12. 1-2; II 15. 1-2; III 23. 5-19; VI 14. 5-6) и включил в нее повествование о самом К. А. и его произведениях (Ibid. VI 13-14). В соч. «Евангельское приготовление» еп. Евсевий пользовался аргументами и иллюстрациями К. А. при обсуждении языческой религии и античной философии (см.: Idem. Praep. evang. II 3. 1-42; II 6. 1-10; IV 16. 12-13; IX 6; X 2; X 6; XI 25; XIII 13); К. А. упоминался им с эпитетом «дивный» (ὁ θαυμάσιος - Ibid. II 2. 64). Хвалебную оценку К. А. давал свт. Епифаний, еп. Кипрский, положительно оценивавший его полемику с еретическим гностицизмом валентиниан (см.: Epiph. Adv. haer. 31. 33). Свт. Кирилл, архиеп. Александрийский, трижды ссылался на «Строматы» К. А. в соч. «Против Юлиана», отзываясь с похвалой о его исключительной образованности (см.: Cyr. Alex. Contr. Jul. VI, VII, X // PG. 76. Col. 813, 853, 1028). Феодорит Кирский причислял К. А. к «древним учителям Церкви» (Theodoret. Haer. fab. Praef. // PG. 83. Col. 340), боровшимся с еретиками, и называл его «священным мужем (ἱερὸν ἄνδρα), превзошедшим всех многоопытностью» (см.: Idem. I 6 // Ibid. Col. 353). В начавшихся еще при жизни Оригена в III в. и продлившихся до окончательного осуждения оригенизма в VI в. дискуссиях по вопросу о православности оригеновского богословия сочинения К. А. не использовались ни сторонниками Оригена, ни его противниками; хотя в сочинениях церковных историков сообщалось, что К. А. был учителем Оригена и его предшественником в Александрийской школе, связанных с этим негативных оценок учения К. А. никто из церковных писателей этого периода не давал. Вероятно, сочинения К. А. были известны одному из ведущих представителей оригенизма, Евагрию Понтийскому; хотя он ни разу прямо не цитировал К. А., исследователи обнаруживают в его аскетическом учении смысловые и понятийные параллели с учением К. А. о христ. гносисе (см.: Guillaumont. 1987). После V в. упоминания К. А. за пределами исторических сочинений становятся весьма редкими. Прп. Максим Исповедник, приводя цитаты из соч. «О Промысле» и называя его автором К. А., сопровождал упоминания его имени хвалебными эпитетами: «святейший и блаженнейший» (ἁγιώτατος κα μακαριώτατος), «поистине философ философов», «великий автор Стромат» (см.: Clem. Alex. Fragm. 37, 39, 40, 41; Zahn. 1884. S. 39-44); прп. Максиму был известен также текст «Очерков», однако он цитировал его лишь один раз (см.: Zahn. 1884. S. 74). В соч. «Амбигвы к Фоме» (CPG, N 7705) прп. Максим с одобрением сообщает о том, что, по мнению неких «последователей Пантена», логосы всего сущего - это «божественные воления», через к-рые Бог творит и познает все сотворенное; поскольку ни о каких последователях Пантена кроме К. А. сведений нет, исследователи полагают, что это мнение прп. Максим мог заимствовать из «Очерков» К. А. или др. его несохранившегося сочинения (см.: Maximus Conf. Ambigua // PG. 91. Col. 1085 = Clem. Alex. Fragm. 48; ср.: Морескини. 2011. С. 122). На сочинение «О Промысле» ссылался с атрибуцией К. А. и прп. Анастасий Синаит; он называл К. А. «великим» и «священным» (ἱερός), ставя его в один ряд с др. древними церковными писателями (см., напр.: Clem. Alex. Fragm. 42, 49, 53), однако приводимые им цитаты, нередко неизвестного происхождения, имеют случайный характер и не могут свидетельствовать о серьезном влиянии на него сочинений К. А. Прп. Иоанн Дамаскин включил значительное число отрывков из сочинений К. А. в сб. «Священные параллели». Исследователи обращают внимание на то, что при именах цитируемых в сборнике почитаемых правосл. Церковью святых почти всегда дается титул «святой» (ἅγιος) или «блаженный» (μακάριος), тогда как проч. церковные писатели упоминаются лишь по имени; К. А. входит во 2-ю группу и ни разу не упоминается с титулами (Knauber. 1970. S. 290). Однако при цитировании в соч. «О двух волях во Христе» (CPG, N 8052) прп. Иоанн Дамаскин называл К. А. «блаженным» (см.: Ioan. Damasc. De duab. volunt. // PG. 95. Col. 161). О том, что даже после завершения оригенистских споров и осуждения Оригена правосл. Церковью К. А. не считался единомышленником Оригена, свидетельствует «Церковная история» Георгия Синкелла, созданная на рубеже VIII-IX вв. Критикуя еп. Евсевия Кесарийского за то, что тот в своей «Церковной истории» уделил Оригену гораздо больше внимания, чем современникам Оригена, «святым и блаженным отцам», Георгий Синкелл относит к числу этих отцов и К. А., называя его имя в одном ряду с сщмч. Ипполитом Римским, Юлием Африканом и свт. Дионисием Великим, еп. Александрийским (см.: Georg. Sync. Chron. P. 446). Если по отношению к Оригену Синкелл, убежденный противник оригенизма, нередко использовал различные бранные слова, то К. А. он называл «священным» (ἱερός), а «Строматы» - «священными словесами» (см.: Ibid. P. 140, 271; ср.: Knauber. 1970. S. 292-293). В IX в. свт. Фотий, патриарх К-польский, предложил обзор основных сочинений К. А. в своей «Библиотеке» (Phot. Bibl. 109-111). Дав положительную оценку «Увещеванию к язычникам» и «Педагогу», свт. Фотий неодобрительно высказался о «беспорядочном» стиле «Стромат» и отметил, что в некоторых местах это сочинение содержит не вполне здравое учение. Наиболее резкой критике свт. Фотий подверг «Очерки»; он отметил, что в них содержится наряду с правильным учением множество «нечестивых» высказываний и привел нек-рые примеры. Согласно выводам совр. исследователей, столь резкое суждение свт. Фотия было связано гл. обр. с тем, что высказывания К. А. были истолкованы им в свете осужденного правосл. Церковью богословия Оригена; нек-рые идеи К. А. оказались непонятными для свт. Фотия из-за разницы между языками христ. богословия II и IX вв. (см.: Knauber. 1970. S. 294-304; Ashwin-Siejkowski. 2010). Общее отношение к К. А. свт. Фотий высказал также в соч. «Слово о тайноводстве Святого Духа»; перечисляя авторитетных церковных писателей, он назвал и имена 5 дидаскалов Александрийского училища: Пантена, К. А., Пиерия, Памфила и Феогноста, заметив далее: «Они мужи священные (ἄνδρας ἱερούς) и учители священных наук; хотя не все их положения мы целиком принимаем, мы воздаем им честь и хвалу, почитая за добродетельную жизнь и священное учение по прочим вопросам» (Phot. De Spirit. Sanct. mystag. 75 // PG. 102. Col. 356). Несмотря на осторожность оценки свт. Фотия, осуществленное им в «Библиотеке» сближение учения К. А. с учением Оригена, вероятно, было ярким проявлением общего настороженного отношения византийских богословов этого времени к автору, исторически связанному с Оригеном. Красноречивым свидетельством распространенности ошибочного представления о близости богословских убеждений К. А. и Оригена является анахронистическое замечание в интерполированной версии «Хроники» Георгия Амартола (точная датировка интерполяции невозможна; вероятно, она относится к X-XII вв.): «Климент, автор Стромат, был оригенистом (῾Ωριγενιαστὴς ὦν); так было открыто одному из отцов» (Georg. Mon. Chron. // PG. 110. Col. 83; в этой же версии имя К. А. оказывается помещенным между именами еретиков; см.: Ibid. Col. 532; ср.: Knauber. 1970. S. 293-294). С X в. визант. богословы перестали обращаться к сочинениям К. А.; упоминания о нем нейтрального характера встречаются лишь у историков и хронографов, изредка имя сопровождается титулом «блаженный». Т. о., на основании источников, содержащих сведения о рецепции К. А. вост. отцами Церкви и церковными писателями, можно сделать следующие выводы: 1) сочинения К. А. были известны мн. греч. церковным писателям, однако значительной популярности после IV в. не имели; хотя определяющего влияния на кого-либо из отцов Церкви взгляды К. А. не оказали, отдельные методологические и богословские идеи К. А. получили рецепцию в Вост. Церкви и стали частью церковного Предания; 2) православие учения К. А. не подвергалось сомнению никем из вост. отцов Церкви, кроме свт. Фотия; при этом и он осуждал лишь отдельные мнения К. А., но не его лично; 3) по отношению к К. А. употреблялись различные хвалебные эпитеты, свидетельствующие об уважительном отношении к нему как к богослову и церковному учителю; вместе с тем церковные писатели не использовали применительно к нему слово «святой» (ἅγιος), к-рое могло бы подтвердить наличие его общецерковного почитания; 4) в источниках нет сведений о литургическом почитании К. А. в Вост. Церкви; с его именем не связаны к.-л. агиографические, гимнографические или иконографические памятники.
В Зап. Церкви первым церковным писателем, упоминавшим К. А., был блж. Иероним (см.: Hieron. De vir. illustr. 38; Idem. Ep. 70. 4); основные сведения были заимствованы им у еп. Евсевия Кесарийского, однако он был знаком и с нек-рыми сочинениями К. А., в т. ч. с «Очерками». Руфин Аквилейский упоминал о К. А. в контексте защиты предположения о том, что сочинения Оригена были интерполированы еретиками; в качестве примера еще одной интерполяции он указывал на сочинения К. А., отмечая, что в них можно встретить высказывания о тварности Сына; согласно мнению Руфина (исторически несостоятельному), невозможно допустить, что такие суждения высказал К. А., муж выдающейся образованности и исключительного правоверия (см.: Rufin. De adult. lib. Orig. // PG. 17. Col. 621-622). Блж. Иероним в ответе Руфину предложил иное объяснение; по его мнению, александрийские богословы могли в чем-то ошибаться и где-то допускать неосторожные выражения, не представлявшие опасности для веры до того, как ими стали пользоваться еретики (см.: Hieron. Adv. Rufin. II 17 // PL. 23. Col. 460). Сведения о том, были ли известны сочинения К. А. в Западной Церкви в IV-V вв., отсутствуют; по мнению нек-рых ученых; следы знакомства с «Увещеванием к язычникам» могут быть обнаружены в соч. «Против язычников» Арнобия Старшего и у Юлия Фирмика Матерна (ср.: Méhat. 1981. S. 111). В VI в. Кассиодор после знакомства с «Очерками» К. А. распорядился подготовить лат. изложение части сочинения, устранив все неточные и соблазнительные места (см.: Cassiod. De inst. div. lit. Praef. 4); хотя подобная оценка свидетельствует, что уже в это время богословский язык К. А. был малопонятен лат. писателям, сам факт заказа перевода говорит об интересе к богословским идеям К. А. В V-VI вв. распространение в Западной Церкви получил «Декрет о принимаемых и не принимаемых книгах» (Decretum Gelasianum), авторство к-рого было приписано папе Римскому Геласию I. В разделе документа, содержавшем перечень не принимаемых Церковью апокрифических писаний, были упомянуты «сочинения другого Климента, [а именно] Александрийского - апокрифы» (см.: Decret. Gelas. P. 56; «другого», вероятно, связано с ранее упомянутым в документе сщмч. Климентом, еп. Римским, сочинения к-рого также были отнесены к апокрифам). Само по себе включение в этот список не свидетельствовало о специальном выделении К. А. как еретика, но отражало лишь чрезмерную осторожность неизвестного автора, поскольку наряду с К. А. в списке присутствовали сочинения др. уважаемых церковных писателей, в т. ч. Тертуллиана, Лактанция, Арнобия Старшего, Иоанна Кассиана Римлянина, Фавста, еп. Регийского (ср.: Knauber. 1970. S. 291-292). Однако закрепление офиц. статуса документа вслед. его включения в сборники декреталий привело к тому, что всякий интерес к богословию К. А. в Западной Церкви пропал; за исключением переведенного по заказу Кассиодора отрывка, его сочинения не переводились на латинский язык до XVI в. В средние века К. А. был известен на лат. Западе лишь благодаря широкому распространению сделанного Руфином лат. перевода «Церковной истории» еп. Евсевия Кесарийского, к-рый лег в основу ряда позднейших переработок и хроник. Непосредственно из лат. перевода «Церковной истории» имя К. А. было взято в IX в. монахом Узуардом, составившим собственную версию Мартиролога, к-рая впосл. получила значительное распространение в католич. Церкви. Заимствование из лат. «Церковной истории» подтверждается пояснительным текстом в Мартирологе, почти дословно совпадающим с текстом Руфина: «В Александрии, память святого Климента пресвитера, весьма прославившегося в изучении божественных наук» (см.: MartUsuard // PL. 124. Col. 765-766). Поскольку Узуард перенес совершавшуюся 4 дек. память мучеников Симфрония и Олимпия, упоминаемых в Житии сщмч. Стефана I, еп. Римского (III в.), на 27 июля, ставший вакантным день 4 дек. он заполнил именами двух новых святых, к-рые ранее не присутствовали ни в одном мартирологе: К. А. и Мелетия, «епископа понтийских церквей», современника еп. Евсевия Кесарийского (ср.: Euseb. Hist. eccl. VII 32. 26-28). Память К. А. перешла во мн. лат. мартирологи, производные от Мартиролога Узуарда, однако сведений о к.-л. литургическом почитании К. А. на лат. Западе до или после IX в. нет. При составлении офиц. Римского Мартиролога (Martyrologium Romanum) при папе Григории XIII (1572-1585) имя К. А. не было включено в список почитаемых 4 дек. святых (при этом имя еп. Мелетия сохранилось; см.: Martyrologium Romanum. R., 1583. P. 215). В последующих переработках и переизданиях Римского Мартиролога имя К. А. также отсутствовало; упорное нежелание Римских пап вносить его память в офиц. мартиролог исследователи объясняют тем, что авторитетные католич. теологи, отчасти опираясь на мнение свт. Фотия и «Декрет о принимаемых и не принимаемых книгах», а отчасти самостоятельно изучая уже опубликованные к этому времени на греч. и лат. языках сочинения К. А., указывали на наличие у него ошибочных с богословской т. зр. мнений. Так, Ц. Бароний (1538-1607) и кард. Р. Беллармин (1542-1621) прямо ссылались на «Декрет о принимаемых и не принимаемых книгах» (см.: Backus. 2010. P. 359-362); Д. Пето (1583-1652) приводил в качестве ошибочного утверждение К. А. о том, что Сын имеет природу, наиболее близкую к Отцу (см.: Clem. Alex. Strom. VII 2. 5. 3), отмечая, что это «заблуждение платоников и ариан» (см.: Dionysius Petavius. Theologicorum dogmatum tomus secundus: In quo de Sanctissima Trinitate agitur. Lutetiae Parisiorum, 1644. P. 16; ср.: Knauber. 1970. S. 307). Кроме того, сочинения К. А. пытались использовать в полемике с католиками протестант. богословы; напр., М. Флаций Иллирик (1520-1575) утверждал, что сочинения К. А. подтверждают отсутствие в древней христ. Церкви учения о мессе как жертве, о священническом целибате, о папском примате и т. п. (см.: Flacius M. I. Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae. Basileae, 1556. P. 23-27). В действительности число тезисов, к-рые протестанты могли заимствовать из сочинений К. А. для поддержки собственных взглядов, было сравнительно невелико и значительной популярности у основоположников протестантизма его произведения не имели; однако даже редких упоминаний было достаточно для того, чтобы вызвать недовольство католич. богословов и побудить их к придирчивому рассмотрению извлеченных из сочинений К. А. спорных положений, в результате которого нередко отмечались его расхождения с католич. вероучением (ср.: Backus. 2010. P. 363-367). Окончательное решение по вопросу о святости К. А. было принято папой Римским Бенедиктом XIV (1740-1758), сформулировавшим офиц. позицию католической Церкви в апостольском послании «Postquam intelleximus» от 1 июля 1748 г. Послание было опубликовано в подготовленном по указанию папы новом исправленном издании Римского Мартиролога (Martyrologium Romanum. Romae, 1749) и включалось в большинство последующих переизданий; формально оно адресовано королю Португалии Жуану V (1706-1750), к-рый, руководствуясь политическими мотивами, упрекал Римских пап в произвольном изменении списка почитаемых святых. В послании папа Бенедикт XIV после пересказа мнений древних и новых теологов о К. А. (см.: Ibid. P. XVIII-XXII) приводил основания, препятствующие включению К. А. в список святых: 1) отсутствие сведений о жизни и нравах К. А., к-рые подтверждали бы его святость; 2) отсутствие реликвий К. А. и сведений о любых формах молитвенного почитания его в древности как в Восточной, так и в Западной Церкви; 3) наличие свидетельств древних (свт. Фотий, Кассиодор) и новых (Пето, Беллармин) церковных писателей об ошибочности нек-рых богословских утверждений К. А.; 4) отнесение сочинений К. А. к апокрифам в «Декрете о принимаемых и не принимаемых книгах»; 5) отсутствие имени К. А. во всех древних мартирологах за исключением Мартиролога Узуарда. Отмечая, что Церковь не почитает в качестве святых лиц, относительно безупречности учения которых существуют сомнения, даже если они имеют заслуги перед Церковью и пользуются уважением, папа Бенедикт XIV заключал, что почитание К. А. как святого и включение его имени в Римский Мартиролог невозможно (Ibid. P. XXII-XXVII). Решение папы Бенедикта XIV положило конец спорам внутри католич. Церкви о святости К. А.; при этом связанные с проблемой корректной богословской интерпретации идей К. А. дискуссии теологов, неоднократно возникавшие в XVII-XIX вв., во многом задали основные направления научного изучения богословских и философских взглядов К. А., начавшегося в XIX в. (см.: Backus. 2010. P. 367-371; Wagner. 1971).
В рус. богословской и патристической науке сочинения К. А. стали предметом внимания с сер. XIX в. Признавая, что отдельные мнения К. А. были отвергнуты правосл. Церковью в процессе исторического развития богословского учения христианства, рус. исследователи, однако, стремились продемонстрировать внутреннюю принадлежность К. А. к правосл. церковной традиции и выразить его мировоззрение традиц. языком правосл. богословия. Точную обобщающую характеристику взглядов К. А. и оценку их соотношения с правосл. вероучением предложил архиеп. Филарет (Гумилевский) в соч. «Историческое учение об отцах Церкви». Отмечая, что во всех богословских рассуждениях К. А. стремился поставить знание и образование на службу христ. истине, архиеп. Филарет замечал: «Климент любил философию для того, чтобы служить ею небесной истине; но, увлекаемый своим направлением, иногда указывал там истину Христову у философов и поэтов, где ее нет, указывал ведение (γνῶσις) там, где были только ошибки» (Филарет (Гумилевский), архиеп. 1859. С. 208). Схожие оценки повторялись и в последующих работах рус. ученых, подчеркивавших историческую и идейную важность для развития христ. богословия желания К. А. гармонично соединить разум и веру; по словам Н. И. Сагарды, К. А. «дал такую формулировку решению вопроса об отношении между верой и знанием, которая сделалась аксиомой для церковной науки» (Сагарда. 2004. С. 429; ср.: Скворцев. 1866. С. 93; Попов. 1887. C. 611-614). При этом подлинно христ. характер богословия К. А. мн. исследователи усматривали в том, что к учению о гностическом знании он присоединил учение о христ. любви, без деятельного возрастания к-рой невозможно и возрастание знания; изображая истинного гностика, К. А. предлагал не только интеллектуальный, но и нравственный идеал, призывая к уподоблению Богу, явившему в Боговоплощении образ совершенного человека (Миртов. 1900. С. 61-62; ср.: Сидоров. 1998. С. 138).